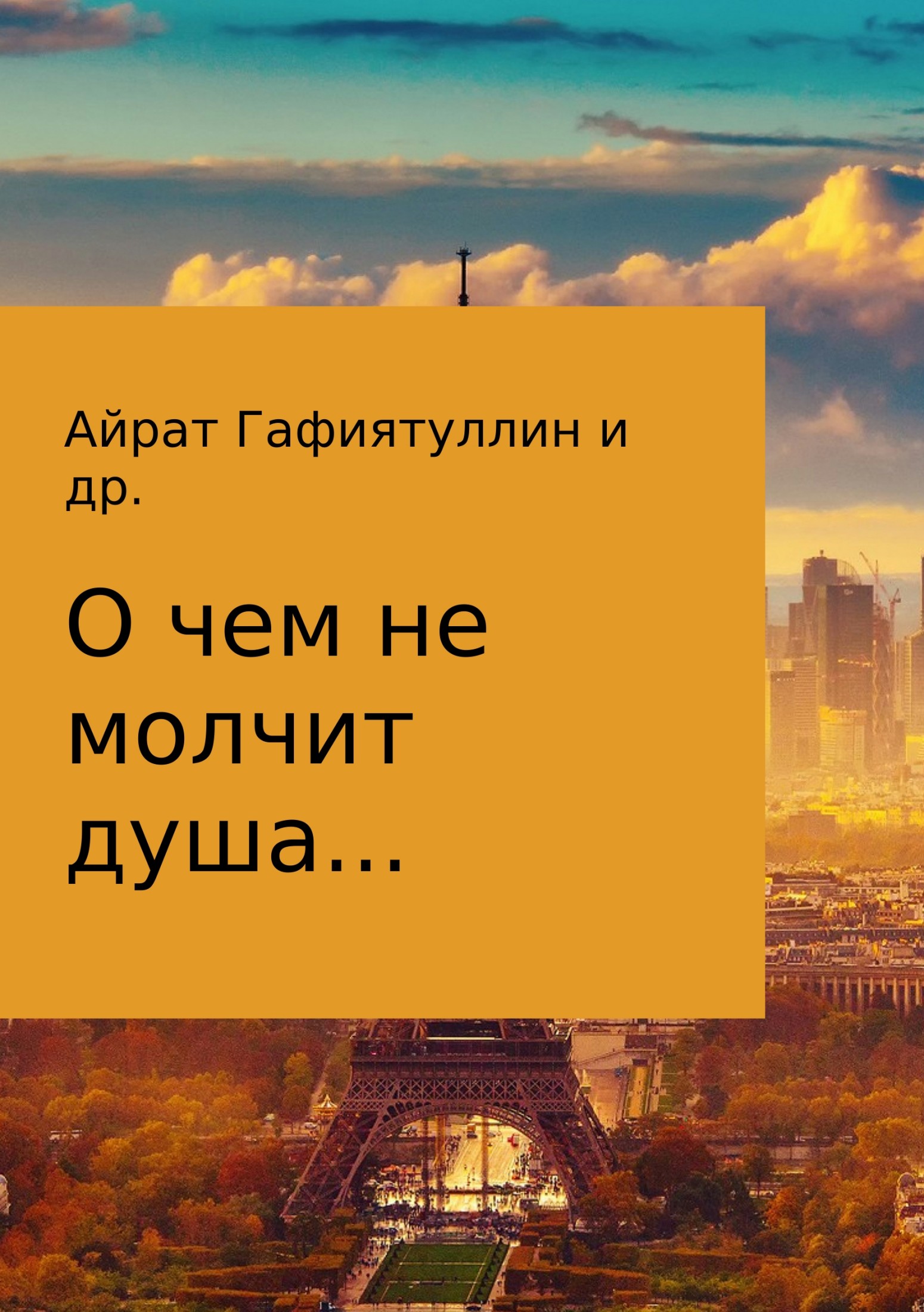баушка, открой рот шире да руками-то покрепче за лавку возьмись.
Она подчинилась ему, но увидев нацеленные ей в рот клещи, показавшиеся зловеще огромными, вдруг дико выпучила глаза, взвизгнула и начала яростно отбиваться руками и ногами.
— И-и-и-и-и-и! А-а-а-а-а!
— Баушка, баушка! Што ты! — забормотал Гагулькин, испуганно отскакивая от нее, растерянно озираясь по сторонам и явно не зная, что делать для успокоения пациентки. Потом замахнулся на нее клещами и заорал: — Да замолчи ты, старая карга! Кабы знал, так в жизни не взялся бы тебя пользовать! Замолчи! Не ровен час, Еремеев в совет явится!
Лукерья замолчала, затем осторожно дотронулась до щеки, давнула ее ладонью и, полная недоумения и радости, произнесла:
— А! Осподи Исусе! Кажись, перестало!
Но, видимо, еще не поверила этому, подвигала челюстями.
— Так и есть! Перестало! Царица небесная, пресвятая дева Мария! Ох, и натерпелась я страху. Не приведи, господь, еще раз такому случиться! Ну, спасибо, тебе, батюшко, Семен Гаврилович! Ну, спасибо!
Гагулькин, не ожидавший такого необыкновенного исцеления, недоверчиво осмотрел старуху, но так как ей, по-видимому, действительно полегчало, сказал:
— Вот то-то же!
— А зуб где, батюшко? — спросила Лукерья. — Прибрать его надо, иной раз для наговору сгодится.
— На месте твой зуб! Где стоял, там и стоит. Не дала же ты его вырвать.
— Осподи Исусе! Так это со страху, наверно, перестало болеть?
— Может, и со страху! Как знать? Все ж таки зуб не простой, а коренник, поди его разбери, с коей стороны к нему подходить. Вот я как-то читал, один раз также в Мексике было…
— Ну, добрый ты мужик, батюшко! — перебила его Лукерья. — Дай-то бог тебе радостев и успехов в жизни. Ублаготворил ты меня, старуху. Теперича и в Калмацкое не надобно ехать.
Она оглянулась, но поскольку они были вдвоем и никто их видеть не мог, вытянула откуда-то из-под складок широкого сарафана бутылку самогона и три куриных яйца.
— Прими, батюшко!
Гагулькин покосился на этот дар; у него сразу пересохло во рту и заныло в желудке, но, вспомнив предупреждение Еремеева, отодвинулся.
— Бери, батюшко, бери! Все равно: не тебе, так дохтурше отдала бы. Как же без благодарностев, батюшко.
Соблазн был велик, и Гагулькин принял. «На крайний случай, — находя себе оправдание, решил он, — бутылка до вечера постоит в столе, а там отнесу ее домой. Никто не волен запретить мне дома выпивать!» Однако же не зря сказано, что благими намерениями ад вымощен. Не успела Лукерья закрыть за собой дверь, как бес желаний начал крутиться возле Гагулькина и совращать его запахом самогона. Семен крепился, отмахивался, а бес подступал все настойчивее. В конце концов Гагулькин сделал ему маленькую уступку: открыл бутылку, понюхал, капнул самогоном на кончик языка и поставил ее обратно. Бес только того и ждал. Гагулькин сделал ему вторую уступку — отпил из бутылки глоток, закусил сырым яйцом, а дальше уже сама собой бутылка оказалась пустой, от яиц осталась одна скорлупа, в голове зашумело. Сидя за столом и укоряя беса в злокозненном поведении, Гагулькин не заметил, как явился на дежурство Фома Бубенцов, как подъехал участковый милиционер Уфимцев и послал Бубенцова с поручениями.
Состояние блаженства и мирная беседа с соблазнителем закончилась лишь с приходом Рогова.
Павел Иванович взял Гагулькина за лацканы потрепанного пиджака, приподнял со стула, хорошенько встряхнул.
— Опять нализался, образина!
— Па… Паве-ел Ива-нович! — виновато забормотал Гагулькин. — Ей-богу, не… не виноват! Ей-богу! Поднесли!
— Кто поднес? Сказывай, сукин ты сын!
Несмотря на опьянение, Гагулькин все-таки не пожелал рассказать о лечении Лукерьи и о принятой от нее благодарности. Освободившись от железных рук Рогова, он выпрямился, принял гордый вид и, ухмыляясь, заявил:
— Ты пошто меня за грудки берешь? Думаешь, испужаюсь? Нет, брат, Семена Гаврилова Гагулькина скоро не испужаешь! Не таковский Семка Гагулькин!
И без того расстроенный утренними неприятностями, Павел Иванович вышел из себя, прижал Гагулькина в угол и решительно потребовал, от него объяснений. Гагулькин еще пошумел, но затем сник и рассказал не только о Лукерье, но и о Ефросинье, у которой каждый вечер брал самогонный первач.
— К ней не все ходют, а кои поближе — на выбор, — заявил он хвастливо. — Это тебе не Милодора Панова, шинкарка. Той лишь бы деньги платили, а к энтой и при деньгах не скоро подъедешь.
— Кто еще там бывает?
— Еще-то? Фенька Кулезень. А чаще всего Максим Ерофеевич. Фроська-то, должно быть, его полюбовница. Содержит он ее в строгих порядках.
— Та-ак! Теперича все понятно! — отпуская Гагулькина, произнес Павел Иванович и при этом невольно подумал: «Эвон, оказывается, откудова ветер-то дует. Неспроста, значит, Фроська хотела любовь подарить. Но чего же они с Большовым хотят?»
4
Вызванные на допрос к участковому милиционеру Аникей Лытков, Фенька Кулезень и Милодора Панова вели себя по-разному. Аникей признал себя виноватым в том, что сразу не сказал комиссии о наличном зерне. Феофан Кулезень был трезвый, но, как всегда, держался нахально, однако подозрение в нападении на избача привело его в недоумение. Милодора рассердилась и начала поносить худыми словами всех, кто мог положить на нее, честную вдову, этакое темное пятно. Большов на вызов не явился. Его домашние сказали, будто он еще на рассвете уехал в поле. Собственно, по делу о Балакине ему ничего нельзя было предъявить, и милиционер намеревался спросить его лишь по поводу самогонного аппарата. Потом даже и в этом отпала надобность. После сообщений Гагулькина Павел Иванович попросил участкового пока Большова ни под каким видом не трогать.
Закончив допросы, участковый уехал.
Павел Иванович дождался прихода Федота Еремеева, закрылся с ним в читальне и долго беседовал. Связанные между собой долголетней дружбой, они привыкли друг от друга ничего не скрывать, советоваться и действовать сообща.
Федот Еремеев согласился с Павлом Ивановичем: никаких слухов о том, что Ефросинья торгует самогоном, не было, значит, она незаметно снабжала только определенный круг лиц. В числе их оказался Гагулькин и, несомненно, Фенька Кулезень. Пользовался ли Большов даровым самогоном как желанный гость, либо играл роль поставщика, все эти вопросы надо было выяснить. Но если Большов не поставлял, а лишь пил даровой самогон, то откуда Ефросинья его добывала? Если гнала сама, то где и из чьего зерна? Самогонный аппарат, по-видимому, находился все-таки в Черной дубраве. Его бы найти, а через него веревочка потянется дальше, и, как знать, не откроет ли она хлебные кладовые Максима Ерофеевича, а также затерявшиеся следы тех, кто нападал на Балакина и вылил бензин.
Решили свои предположения никому до времени не высказывать.
— Птички пугливые: чуть стук, чуть бряк — сразу же крылышки