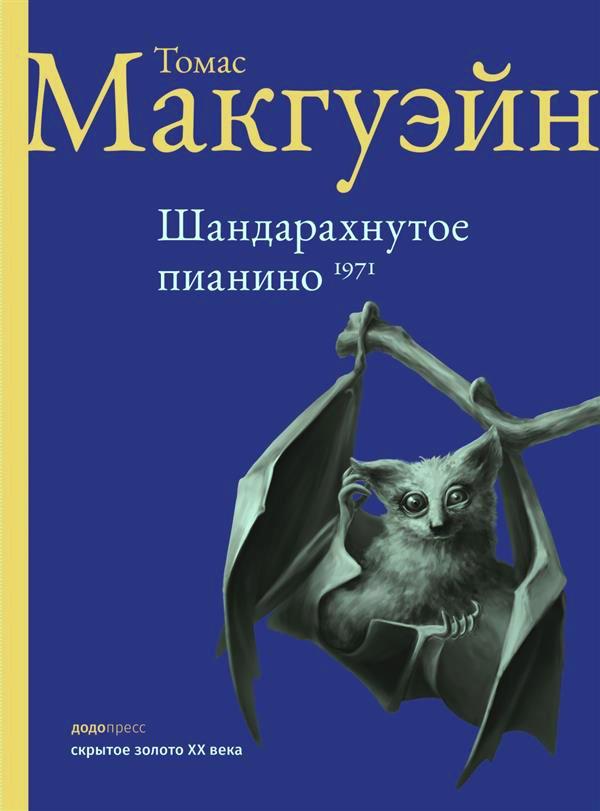лаборатория Марии Кюри.
Настолько физическое и бесконтрольное озарение памятью всего, что у меня было, привело меня в ужас. Было непонятно − как никто другой, кроме меня, не видит этого? Почему никто не кричит, не показывает на меня пальцем?
«Спать, спать хочется», – пробормотала я, заваливаясь на раскладушку, укрываясь благословенным одеялом, чтобы никто не видел, чтобы никто ни о чем не спросил.
Но и ночью это не прошло, а только еще сильнее разгорелось – никогда в жизни больше я такого не испытывала. Стоило закрыть глаза, как под одеялом, в полной темноте апрельской ночи, трепетал и таял на коже этот невидимый свет.
И только наутро, когда я проснулась от звона будильника, все погасло.
И погасло радио, потому что Верман прекратил вести эфир и возглавил «дивизион рекламы», как объявил однажды, поздравив всех с первомайским утром, другой ведущий акающим тенорком.
И погас телефон – потому что больше Верман не звонил.
И погасла, после больной бессонницы, пропитанной желтым стрептоцидом нарциссов у метро и тошнотворной валерьянкой школьных экзаменов, – погасла и сгинула первая та весна.
7
А потом началась самая томительная июньская дурь, какую только может устроить себе барышня шестнадцати лет, понимая, что не просто влюбилась – а влюбилась, девочки, навсегда.
Ночи были светлые, в облаках цветущего, напичканного соловьями, шиповника, а утром все хмурилось – окна, люди, вывески магазинов, и на город осыпались дожди, изредка подкрашенные радугой.
В рассказах Бунина (девять станций метро с работы и на работу) молодые люди сходили с ума по шамаханским царицам, смугло-румяным, с пушком на щеках и ямочкой между грудями, и прочее, и прочее. Все это напоминало мне Аню, когда она улыбалась Верману во время того осеннего ужина, – мучительное чтение.
Вообще, мои ежедневные поездки в «Just now» можно было назвать работой только условно – я пыталась, первый раз в своей жизни, служить переводчиком для каких-то американских миссионеров, которые приперлись в журнал под видом сотрудничества, но кроме чтения Библии не делали практически ничего. Миссионеры были ясны и прекрасны, как пушкинские витязи, а вместо дядьки Черномора рядом с ними паслись их жены и невесты: совместное питание три раза в день, силиконовые поцелуи на пороге и вечерком круговые обсуждения Ветхого Завета на английском. Было нечто животноводческое во всем этом ритме жизни, и через две недели я, придумав себе срочную тему для очерка на исторической родине и пообещав Щербакову читать «Идиота», отправилась вечерним поездом в Косогоры.
«Идиот» завалился за рулон линолеума на московском балконе, весь там размок и в прямом смысле слова самоуничтожился за лето, а в дорожной сумке у меня почему-то оказалась «Анна Каренина».
– Хорошая вещь, чтоб читать в поезде, – заметил мой сосед, искоса взглянув на обложку. И, не выдержав, гоготнул: – Поездом начинается, поездом кончается.
Он поднялся в купе во весь рост, потянулся и пригласил меня пить чай – высокий, смуглый человек в белых брюках, смешливый, красивый, норовящий обнять.
Чай разливал сам. За чаем скалил зубы, балагурил и что-то рассказывал, и это было смешно, но как-то сквозь смех мне становилось все тоскливей, и я все больше хотела, чтобы поезд остановился и чтобы он меня отпустил.
Но он не отпускал и не уходил. Он начал новую историю, почему-то про волков и собак.
– Ну, у них все просто, – улыбнулся он. – В хорошее время волки с ними дружат… а в голодное время – едят. Едят! – повторил он и засмеялся, и я увидела, что клыки у него волчьи.
Купе съежилось до размеров железной клетки, и дверь, выдранная хищной рукой из аккуратных алюминиевых желобков, отлетела куда-то в сторону. В коридоре поезда пахло гвоздикой, тусклые лампочки снялись с места и метнулись в окно одна за другой, а последняя загорелась этажом выше – и я тоже взлетела туда со всех моих ног, трясясь от первобытного ужаса, который превращал воздух в воду и никак не давал вздохнуть. Я добежала по лестнице до одиннадцатого этажа нашего московского дома и начала спускаться по другой лестнице, которая ухнула прямо вниз, до первого этажа – я знала, что это так надо, и бежала по ней, не глядя.
Он бежал за мной − топот его уверенных, звериных ног и мерное дыхание мягко отдавались у меня в ушах.
Я упала на подъездную дверь и потянула ее тяжелую железную скобу на себя.
Разумеется, как и положено во сне, дверь не открывалась.
Но тут же в мутное подъездное окно я увидела, что волк, оказывается, уже вышел, и теперь он не один, их несколько, они все какие-то темные, и мать моя, неожиданно помолодевшая, в легком летнем, цветущем платье, какое она носила, когда мне было года три (и какое я увидела позже только в виде расползшейся тряпки для пыли, мятой и грязной) – она, в этом поплиновом платье, заплывает пестрой рыбкой в большую серебряную раковину их машины, и они хотят увезти ее куда-то.
И я, вместо того чтобы закричать, открыть дверь, побежать к ним, начинаю вдруг читать одну молитву, ту, что баба Нюра читала мне, когда я болела скарлатиной. Говорю без запинки, хотя наяву знаю из нее только одну строчку: «Да воскреснет Бог…» Последние строки дочитываю зажмурившись, навалившись лбом на железный болт. Когда открываю глаза, в оконце никого нет, и закрытая подъездная дверь открывается сама собой, точно от моего вздоха. У скамеечки мать, такая юная, что не может быть моей матерью, худенькая и с длинными волосами, ждет меня. А по тротуару деловито ползет блестящий серый жук – и я почему-то знаю, что это все, во что превратилась волчья машина.
8
Наяву все было очень солнечно и просто.
Поезд прибыл в Косогоры по расписанию, поздно утром.
Отец встретил меня на вокзале, мы втиснулись в полуденный привокзальный автобус, глаголящий на пестрой смеси мордовской, татарской и русской речи, и проехали восемь остановок до кинотеатра «Планета». Вот и тема пресловутого срочного очерка: как у вас там, Лутарина, с кинотеатрами в глубинке?
Да все так же: мрачные билетерши продают прыщавым юнцам билеты на задний ряд, девицы томно изучают афиши у входа. Кровь, солнце, пальмы, акулы в бикини. Местный оформитель хотел как лучше: «Если она заплывет далеко – Лучший ужастик года – Эротическая драма о роковой любви».
Вот улица Октябрьская вильнула влево, и на перекрестке, где бил по воробьям из пушки настоящий фонтан, показалась единственная площадь: там в день города играл оркестр с барабанщиком, на клумбах