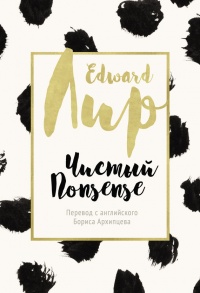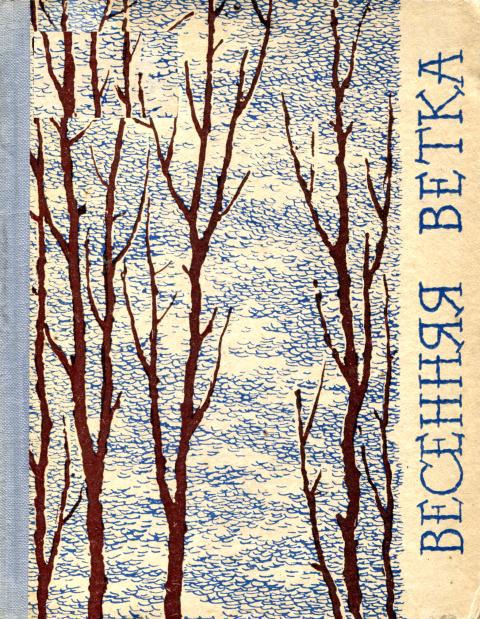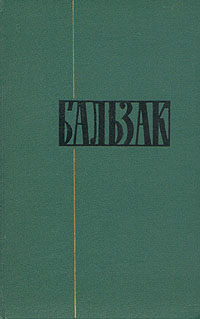влияния среды, в которую я не верю.
Русские танцоры уже уехали. Антоньев, «великий князь», со своими собаками — тоже. Куда? Неизвестно. Никто из нас даже не поинтересовался этим. Их место заняли другие номера, приглашенные кто на неделю, кто на четыре дня. Потому что готовится новое ревю. Я встречаю на сцене и в коридорах незнакомые лица, обмениваюсь полуулыбками или вместо приветствия просто поднимаю и опускаю брови.
Из старой программы остались только мы, Жаден, которая получит — о, боже! — роль в новом ревю, и Бути. Мы грустно разговариваем по вечерам, как ветераны «Ампире-Клиши», которых забыли тут при передислокации полка новобранцев.
Где и когда я повстречаюсь с теми, кого здесь знала? В Париже, в Лионе, в Вене или в Берлине? Быть может, никогда, быть может, нигде. Мы встречаемся на пять минут в конторе мосье Саломона, нашего импресарио. Крепкие актерские рукопожатия, чрезмерно громкие голоса. Только успеваешь понять, что мы еще существуем, обменяться друг с другом неизбежным «Как дела?» и узнать, что либо «порядок», либо «что-то пока не вытанцовывается».
Что-то пока не вытанцовывается… За этой неопределенной фразой мои бродячие товарищи скрывают жизненные крушения, отсутствие работы, денежные затруднения, а подчас и нищету… Они никогда не признаются в своем поражении, поддерживаемые героической гордостью, за которую я их так люблю…
Кое-кто из них, уже потеряв всякую надежду, вдруг получает какую-нибудь крошечную роль в настоящем театре, но, странное дело, они вовсе не хвалятся этим. Никому не известные, они терпеливо выжидают, пока им снова не улыбнется удача и они не получат долгожданного ангажемента в мюзик-холле, выжидают того благословенного часа, когда они снова наденут юбку с блестками или фрак, пахнущий бензином, и в дрожащем свете прожекторов наконец-то выступят в своем репертуаре!
— Нет, что-то не вытанцовывается, — говорит мне один из таких бедолаг и добавляет — Подался в кино.
Кинематограф, который поначалу был форменным бедствием для безвестных артистов мюзик-холла, теперь их спасает. Они лишь приноравливаются к этой безличной деятельности, не приносящей им ни славы, ни удовольствия, они его не любят, к тому же кинематограф заставляет их изменять своим привычкам, путает их распорядок дня, часы еды, отдыха, работы. Во времена кризисов сотни эстрадных артистов спасает кино, но лишь единицы остаются там навсегда. В кино и без них хватает и статистов, и звезд.
— Что-то не вытанцовывается… Нет, не вытанцовывается..
Эту фразу бросают, как бы не придавая ей значения, но вместе с тем серьезно, однако излишне не педалируя, не жалуясь, а небрежно помахивая шляпой или потертыми перчатками. Безработный эстрадник всегда хорохорится, на нем пальто в талию, с преувеличенно широкими полами — по предпоследней моде, ибо главное, без чего он никак не может обойтись, это вовсе не приличный костюм, а заметное пальто, которое все прикрывает, — и поношенный жилет, и видавший виды пиджак, и брюки, пожелтевшие на коленках, броское пальто, шикарное, которое обязано производить впечатление и на директора, и на импресарио, такое, в каком легко произнести с лихостью, словно рантье, знаменитую фразу «что-то пока не вытанцовывается».
Где мы окажемся через месяц?.. Вечером Бути потерянно бродит по коридору, покашливает, пока я наконец не приоткрываю дверь и не приглашаю его посидеть несколько минут у меня. Он осторожно усаживается, откинув свою тощую, как у худой собаки, спину на расшатанный, белый, облупившийся стул и поджимает ноги, чтобы не мешать мне. Вскоре появляется и Браг, он примащивается, как бродяга, на трубе парового отопления, чтобы зад был в тепле. Я стою между ними, заканчивая свой туалет, и при каждом движении обмахиваю их подолом своей красной с желтой вышивкой юбки… Нам не хочется разговаривать, но мы все же болтаем, преодолевая потребность молчать, прижаться друг к другу и дать волю чувствам…
Из нас троих Браг наиболее активен, он сохраняет любопытство, ясность ума и коммерческий интерес к будущему. Что до меня, то будущее здесь ли, там ли… Мой поздно пробудившийся вкус — благоприобретенный, несколько искусственный — к перемене мест, к поездам прекрасно уживается с врожденным спокойным фатализмом мещанки. Отныне я принадлежу богеме, и гастроли влекут меня из города в город. Да, я стала актеркой, но актеркой, любящей порядок, которая сама чинит свои аккуратные тряпки и не расстается с замшевой сумочкой, где в одном отделении лежат медяки, в другом — серебро, а в потайном кармашке тщательно упрятаны золотые монеты…
Ну и пусть, что я странница, но я покорно готова ходить по одному и тому же кругу, как и эти мои товарищи, мои братья… Всякий раз отъезд меня и печалит, и опьяняет, это правда, и что-то от меня остается там, где я побывала, — новые страны, небо, ясное или покрытое тучами, жемчужное море под дождем хранят частицы меня, которые прикипают ко всему так страстно, что мне кажется, будто я оставляю на своем пути тысячи маленьких фантомов, моих отражений, — их подхватывают волны, убаюкивает листва деревьев, обволакивают облака… Но один маленький призрачек, тот, что больше всех похож на меня, не остается ли он дома, не сидит ли в углу у камина, тихий и мечтательный, склоненный над книжкой, которую забывает читать?..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
«Какой прелестный уютный уголок! И как трудно представить себе вас в мюзик-холле, когда видишь здесь, между этой лампой под розовым абажуром и вазой с гвоздиками!»
Вот что сказал уходя мой поклонник в тот день, когда он впервые пришел ко мне на обед вместе с Амоном, этим старым сводником…
Итак, у меня появился поклонник. Иначе, чем этим вышедшим из моды словом, я его назвать не могу. Он не мой любовник, не человек, с которым я флиртую, не мой сутенер… Он — мой поклонник.
«Прелестный уютный уголок»… В тот вечер я горько рассмеялась ему вслед… Неяркая лампа, хрустальная ваза, в которой мерцает вода, кресло, придвинутое к столу, просиженный диван, вмятины в котором умело скрыты ловко разбросанными подушками — и случайный гость, окинув все поверхностным взглядом, ослеплен, он воображает, что в этих тускло-зеленых стенах женщина высшего порядка ведет свою уединенную жизнь, отдавая все свободное время книгам и раздумьям… Но ведь он не заметил пустой запыленной чернильницы, давно высохшего пера, неразрезанной книжки, лежащей на пустой коробке из-под писчей бумаги…
Сухая ветка остролистника, съежившаяся, словно вытащенная из пламени, засунута в глиняный горшок… Небольшая пастель — эскиз Адольфа Таиланди — в рамке с треснутым стеклом, которое давно уже надо бы