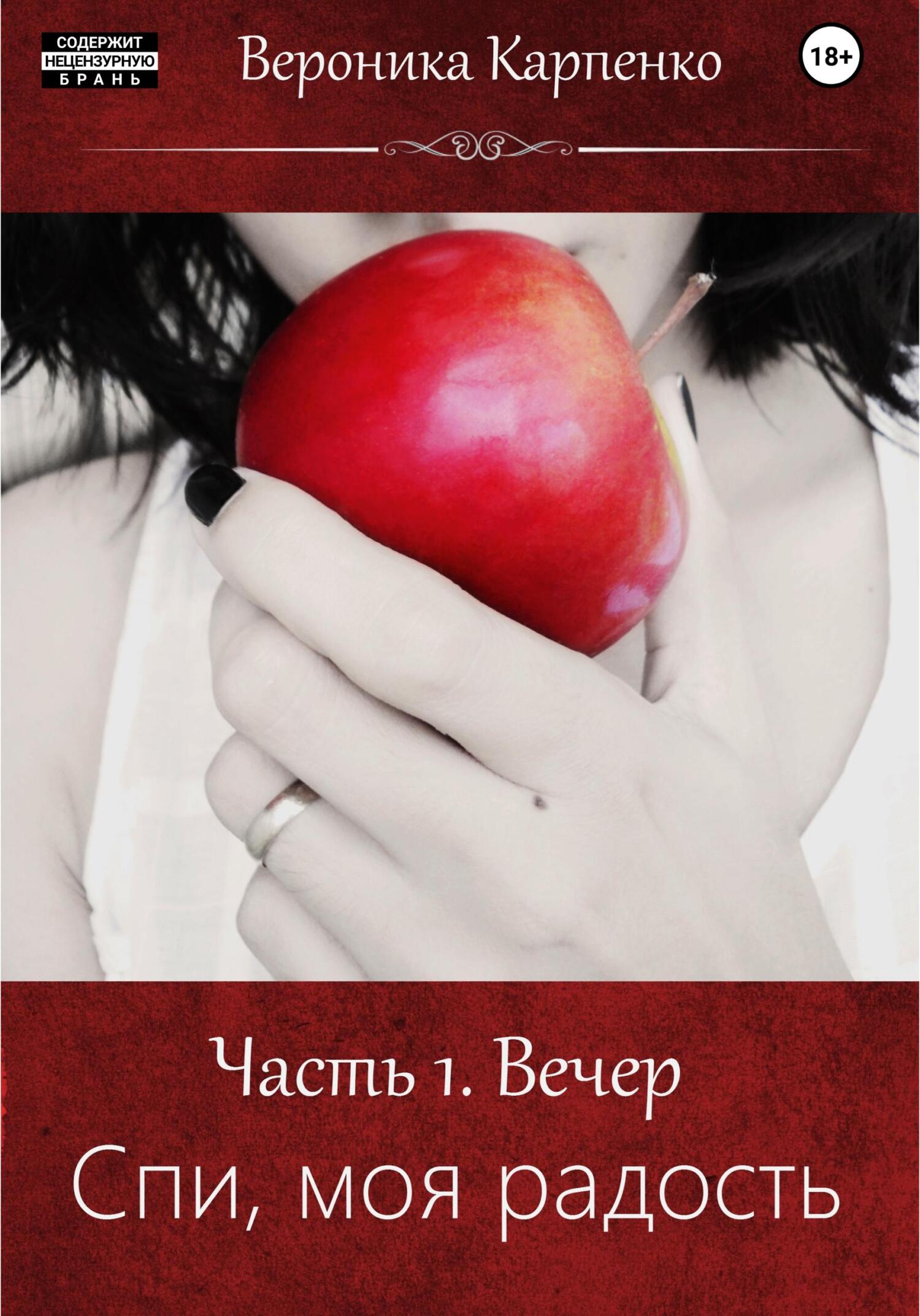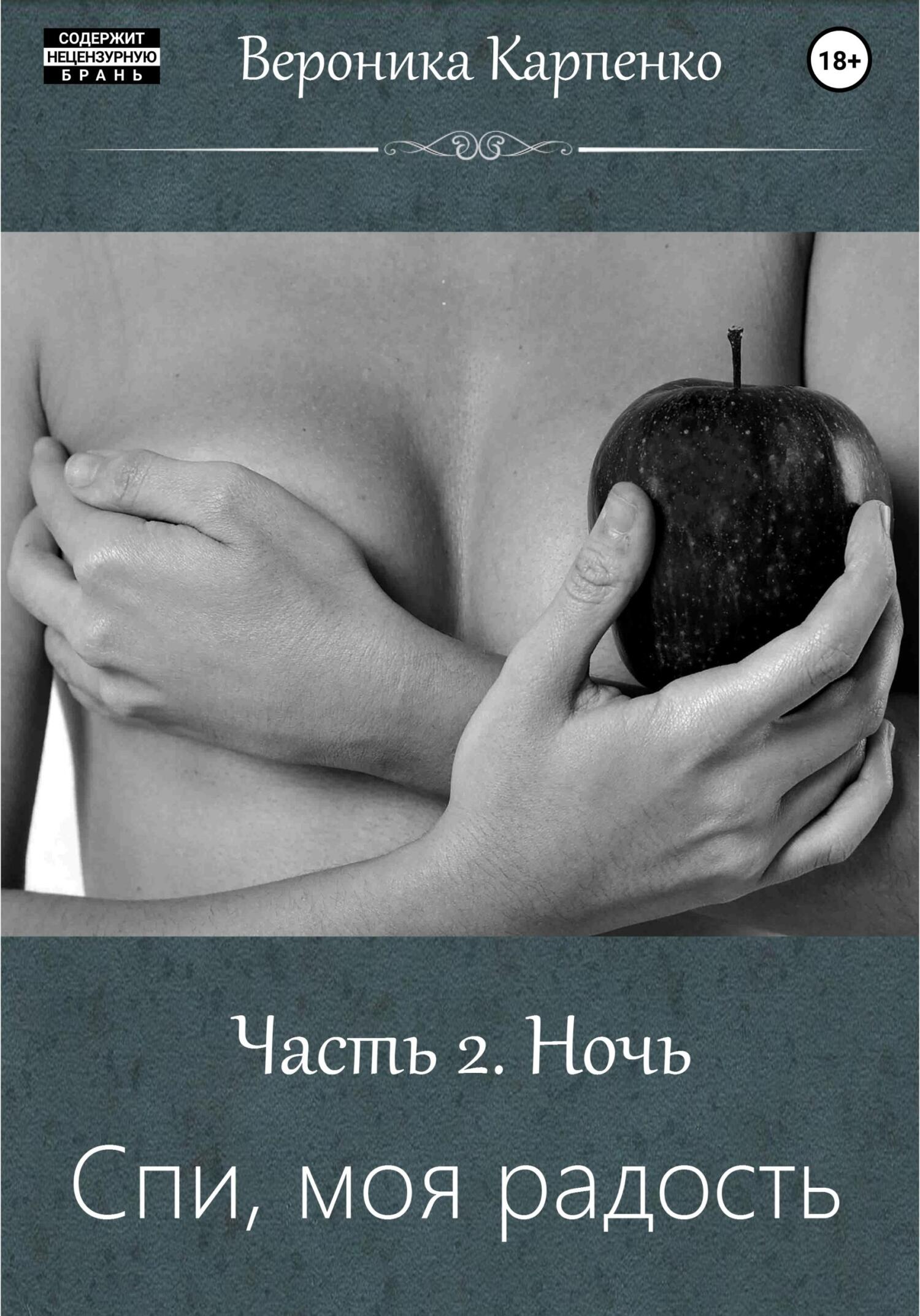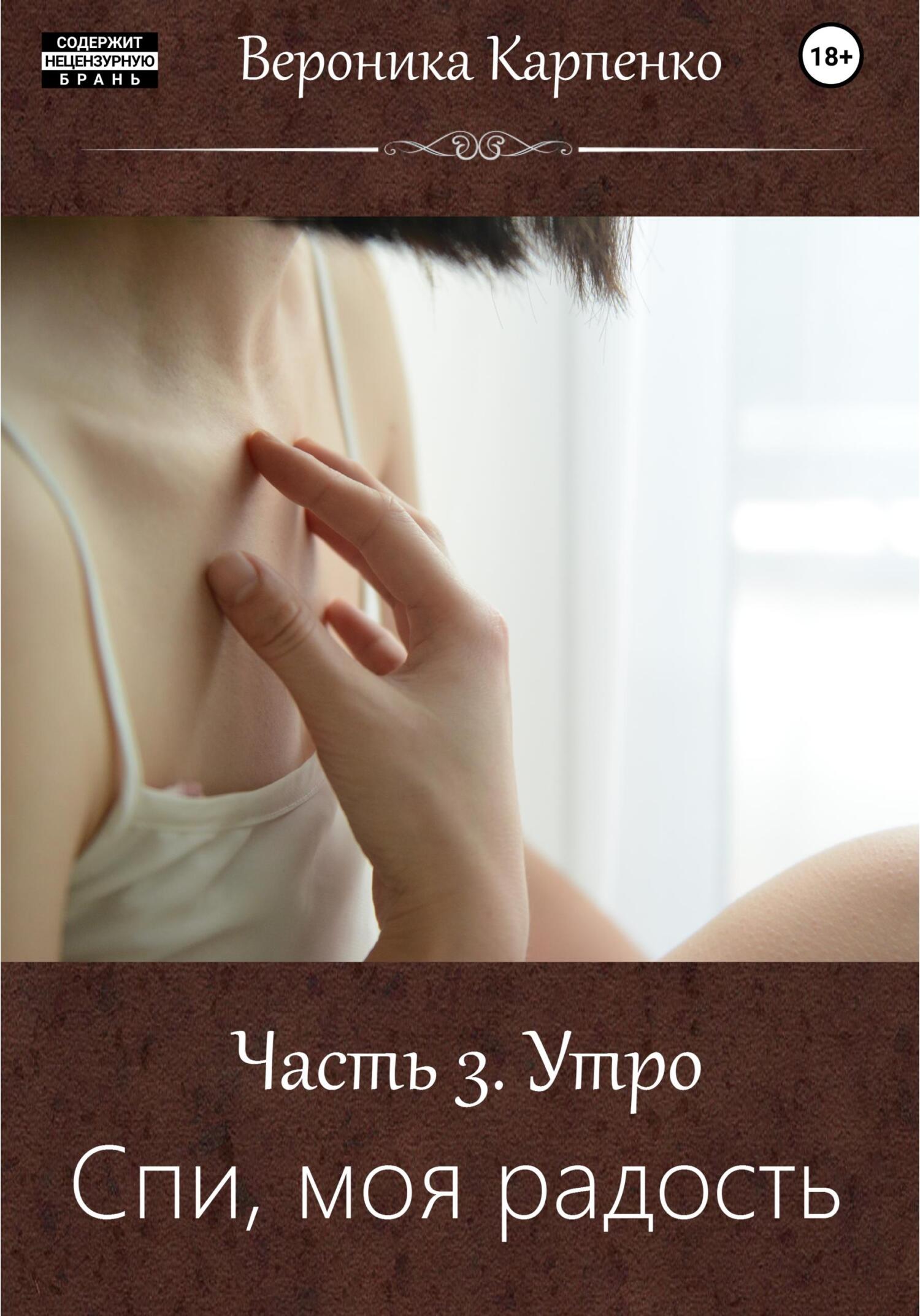из всех собравшихся, невероятно многообещающего студента». Мадлен не сомневалась, что голос принадлежал профессору Марлоу. Пошатываясь, она дошла до стула во втором ряду; профессор тем временем закончил вступление, и начал говорить Алексис. Его глаза смотрели в одну точку, плечи чуть опустились. Его голос, поначалу дрожащий, постепенно звучал все увереннее. Его тембр, интонация, ритм наполняли Мадлен бесконечной теплотой. На протяжении нескольких фраз она просто впитывала звуки этого любимого голоса, не пытаясь понять, о чем он рассказывает. Она вперила свои глаза в его. Вопреки собственным опасениям, при взгляде на сына она испытывала не хлесткий шок, а лишь печаль, утопающую в океане тоски и нежности, из которого можно было бы черпать бесконечно. Мадлен принялась внимательно слушать сына, следя за нитью его доклада, обволакиваясь фразами и словами, которых он никогда не произносил при ней, и ей чудилось, будто он произносит их в первый раз и только для нее одной. Изяществу и четкости его формулировок Мадлен не удивлялась: сильнее всего ее поражала исходящая от сына уверенность. Да, едва заметная нотка уязвимости оттеняла эту уверенность, и все же общее впечатление было неописуемым. Алексис держался как человек, который знает, куда он ведет своих слушателей, ни к чему их не принуждая и излучая такое спокойствие, которое вызывало желание не пропускать ни единого его слова. Эти мысли мелькали в голове Мадлен, которая продолжала купаться в ощущении безграничной теплоты. Она слушала. Она смотрела. Алексис рассказывал, обращаясь к своей матери, Алексис, умерший месяц с лишним тому назад, выходил ей навстречу и ободрял; это он возвратился из небытия, чтобы успокоить ее тревоги. Его лицо было везде. Его взгляд заполнял все помещение. На мгновение Мадлен позабыла, что это всего лишь картинка на экране. Алексис разговаривал с ней. В мире не существовало ничего кроме этого видения, этой неизвестной для Мадлен части жизни ее собственного сына. Она хотела бы приблизиться, обнять его крепко-крепко, прижаться губами к его лбу, к его векам, спрятать его, загородить собой. Но она не двигалась с места, зачарованная этим плоским и в то же время таким живым изображением.
Алексис на экране завершил свое выступление, и публика энергично захлопала в ладоши. В кадре появился Марлоу. Это и вправду был он, тот самый человек с тяжелой поступью и массивным телосложением, образ которого в воспоминаниях Мадлен остался таким расплывчатым. Он встал за спиной Алексиса и положил руки ему на плечи. Профессор сердечно поздравил своего студента, говоря тем же глуховатым голосом и глядя многозначительным взором, и аплодисменты публики удвоились. Алексис опустил глаза и наклонил голову. Что-то неуловимое пробежало по лицу и телу сына Мадлен, в то время как основную часть кадра занимала внушительная фигура профессора. Казалось, Алексис то ли нагнулся вперед, то ли отпрянул; было трудно сказать наверняка. Нерешительность и замешательство в его поведении не укрылись от глаз Мадлен. Она не знала, что именно это было. Возможно, тень тревоги в сочетании с радостью. В любом случае, увиденное насторожило Мадлен, и ее мысли уцепились за этот проблеск едва уловимого движения, которое удалось ухватить видеокамере.
Изображение застыло. Запись подошла к концу. Мадлен снова очутилась в библиотеке, на одном из идеально выровненных стульев; она снова двигалась наугад во мраке мира и не находила ни единого ответа. Выступление, которое она только что посмотрела, состоялось за год до того необратимого прыжка, совершенного Алексисом перед самыми летними каникулами. Последними летними каникулами. Примерно тогда сын и начал вести себя как-то отстраненно. Мадлен принимала это за попытку закономерного отделения от семьи, за ожидаемое утверждение себя. Теперь же она засомневалась. Так ли все обстояло в действительности? Только ли в этом было дело? Могло ли это отчуждение быть вызвано чем-то другим, нежели робкой попыткой отъединиться от семьи и пойти собственной дорогой? От таких мыслей Мадлен начало трясти, потому что теперь она с ужасом понимала, что предчувствовала все это. В противовес всем теориям, инстинкт подсказывал ей, что нужно разбить стену, которую Алексис возводил между родителями и собой. Да, он всегда был человеком закрытым, и его обособление только усугубляло эту черту характера. Инстинкт шелестел, нашептывал, кричал, но Мадлен закрывала уши. Она не хотела уподобиться собственной матери, которая тревожилась из-за малейшей ерунды, она не хотела больше слышать упреков, которыми осыпал ее Пьер, называя курицей-наседкой. И вот Алексис умер. Возможно, она ошибалась, теперь она и сама не понимала, да и что можно понять теперь, когда между ней и телом ее сына стоит непреодолимая толща земли, этот безмолвный упрек, во сто крат более горький, чем все упреки живых людей? Холодящий вопрос торил себе дорожку к ее сердцу. Из самых лучших побуждений отпуская Алексиса на свободу, чему и кому она вверила его на самом деле? Каким таинственным теням, которые усилили неуверенность его движений, пугливость взгляда, нежелание разговаривать с отцом и матерью? Чего она не увидела? Что она запретила себе видеть? Мадлен била дрожь. Она встала и быстро вышла из комнаты. Ей нужно было немедленно уйти отсюда.
* * *
Лежа в полумраке мансардной комнаты, Алексис колеблется между сном и бодрствованием. Он угадывает тень Марлоу над своей головой, ощущает присутствие его внушительной фигуры в темноте, понимает, что профессор рассматривает его, полагая, что он уже крепко спит. Алексис не шевелится, дышит как спящий. Каждый вечер руки Марлоу приближаются чуть больше, касаются его волос, его лица. Профессор задевает одеяло, проводит ладонями по плечам, спине, бедрам своего студента. Алексис ждет, завороженный нереальностью происходящего. Это не Марлоу, это не Алексис, это все синеватая вечерняя мгла, это она разрешает пальцам преподавателя вот так исследовать его, вызывая вибрацию в его теле. Прикосновение напоминает помрачение, во рту вдруг ощущается какой-то прогорклый привкус, Алексис думает о коже Жюльет, но это здесь ни при чем. Сам того не желая, он хочет, чтобы эти руки забрались под одеяло, но сон не позволяет такого, он позволяет только ласку, похожую на биение крыльев, почти неощутимую. Дыхание Марлоу учащается. Снаружи стоит абсолютная тишина, изредка нарушаемая вскриками ночных птиц; ветер с реки, проникающий через полуприкрытое слуховое окно, охлаждает комнату, в которой внезапно стало так душно. Алексис заставляет себя сохранять неподвижность, но что-то в нем изменяется, приподнимает его, пробегает под кожей. Захваченный этим сновидением, которое стало тяжелым, как дыхание преподавателя, он вдруг словно бы улетает в беззвездную ночь. Вечер за вечером он караулит гулкие шаги. С приближением Марлоу воздух электризуется. Затем ночь уносит его. На восходе следующего дня