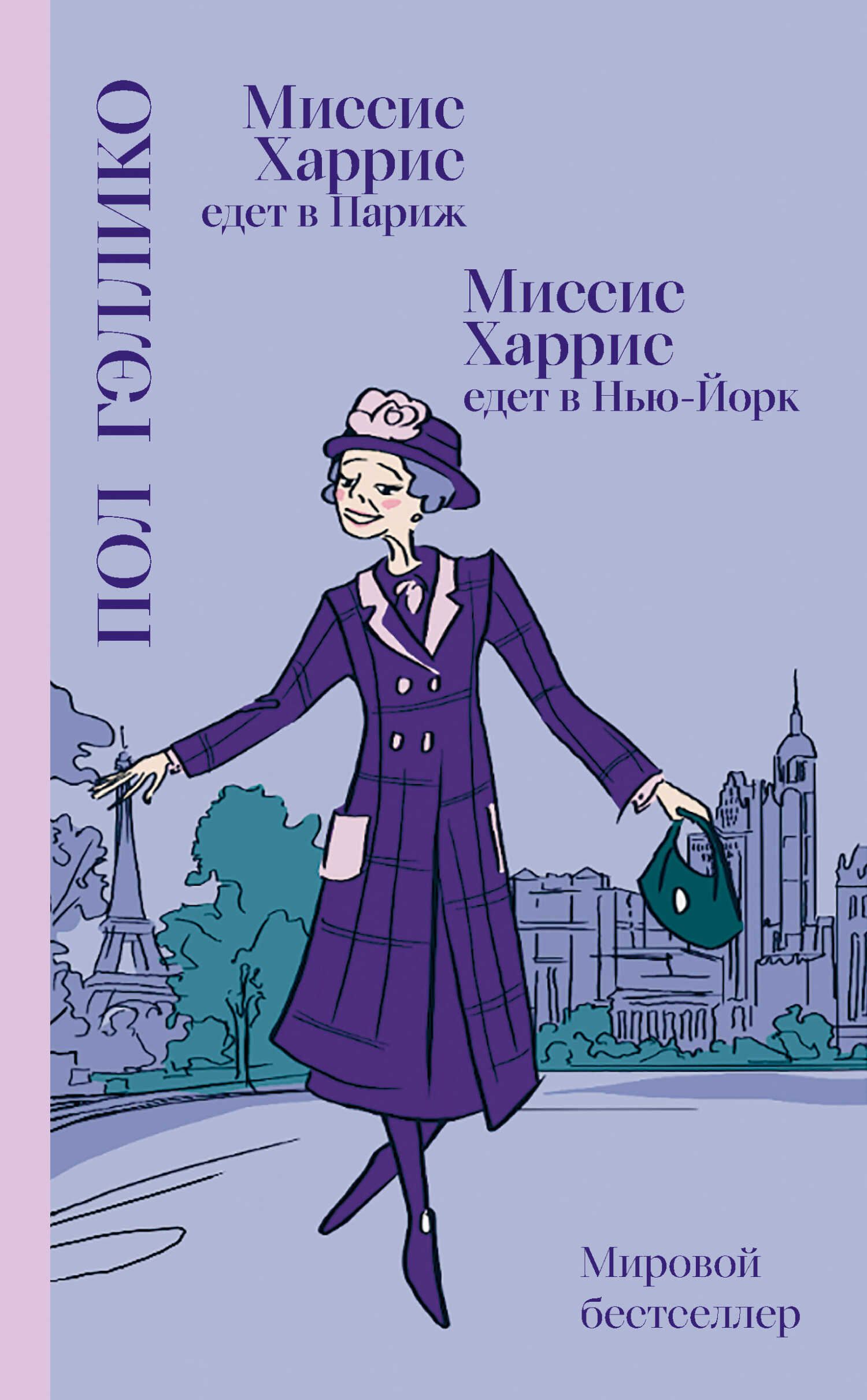даже грозным.
– Ну наконец-то… – произнес он и протянул руки к сыну.
Они обнялись, и Лео почувствовал, что отец плачет.
– Старость… – Рассел Ван Меегерен отстранился, быстро справившись с волнением. – Она превращает самых отважных молодых людей в сенильных плаксивых стариков.
Лео осмотрелся, задержался взглядом на развешенных по стенам картинах: прецизионистских городских пейзажах, портретах рабочих и обычных горожан, достойных кисти основоположников «Школы мусорных ведер»[72]. Особенно выделялись два холста с абстрактными композициями, на которых главенствовали три цвета: кадмиевый желтый, основной синий и глубокий красный.
Первые были подписаны инициалами «PBM» – Рассел Ван Меегерен, два последних – «ЛВМ».
Ни одна картина не была свежей. Рассел Ван Меегерен словно бы уснул, как Рип ван Винкль[73], и проснулся накануне приезда сына: его творения украшали стены, но писать он перестал больше двадцати пяти лет назад. В его доме все, начиная с вощеного дубового паркета и массивной темной мебели до кружевных салфеток на подголовниках кресел, было старым, даже старинным – за исключением ноутбука и телефона.
Две маленькие картины в абстрактном стиле Лео написал в пятнадцать лет…
– Что случилось с твоим лицом? – поинтересовался отец.
– Ничего страшного, переоборудовал лофт и слегка не рассчитал силы.
– Нда… Выглядишь молодцом, форму не потерял.
– Ты тоже, папа.
– Врешь и не краснеешь…
Рассел Ван Меегерен снова обнял сына, и это проявление чувств удивило Лео: в детстве он считал отца богом, далеким и недоступным. Молчаливость и сдержанность Рассела научили его сына не только деликатности, уважительности в отношениях с людьми, но и властности, лишив при этом душевной открытости, которую не смогла компенсировать ему мать, женщина любящая, но тоже скупая на чувства.
Кокер крутился вокруг мужчин, вертел хвостом, подпрыгивал, пытаясь привлечь к себе внимание. Рассел посмотрел на него и спросил:
– Кто это у нас тут?
– Моя собака.
– Имя у него есть?
– Пес.
Старик подошел к круглому столику, взял бутылку виски «Вудфорд резерв» и два стакана.
– Не рано, папа? – удивился Лео.
– В самый раз, если сын только что вышел из тюрьмы!
Он налил, они чокнулись, выпили, и алкоголь обжег желудок Лео.
– Ну как?
– Напиток богов. Амброзия.
Лео не ждал, что отец сразу задаст сакраментальный вопрос, но он прозвучал:
– Снова начнешь писать?
– Не знаю… Они продали «Дозорного», – вдруг сказал он.
– Видел, – откликнулся Меегерен-старший (если он не возился с книгами, то бродил по просторам интернета).
– Я был на аукционе.
– Помню, ты всегда обожал Чарторыйского.
– В отличие от тебя…
Рассел Ван Меегерен снова сел в кресло, сделал глоток виски и посмотрел на сына поверх очков.
– Чарторыйский создал один шедевр. Все остальное талантливо, но не гениально.
– «Тюльпаны»?
– Грошовый неоэкспрессионизм.
– «Портрет Сола Беллоу»?[74]
– Жалкое подражание Джулиану Шнабелю[75].
– «Белая Гора»?
– Неталантливая Сьюзен Ротенберг[76].
Лео рассмеялся:
– Чарторыйский – великий художник, папа. Не понимаю, почему ты не хочешь это признать.
– Потому что у меня есть вкус. Получше твоего.
«Слава богу, старик все тот же».
– Где мама?
– Императрица в теплице, – ответил старик и улыбнулся глазами.
Для «ее величества» Эми Ван Меегерен была одета незатейливо: толстый свитер, потертые джинсы, синий холщовый фартук, выпачканный в земле. У нее были большие, как у куклы, бледно-голубые глаза и длинные белокурые волосы с проблесками седины, которую мать Лео никогда не закрашивала, потому что, как и муж, плевала на мнение окружающих.
Одной рукой она держала фартук за нижний край и складывала в него сезонные овощи, которые произрастали на плодородной земле теплицы, пристроенной к задней части дома. В Нью-Йорке появлялось все больше фермерских лавок и вегетарианских гастрономов, адепты био-органического питания следовали заветам Дэна Барбера, пионера движения «С фермы-на-стол», молодые администраторы отдавали предпочтение местной продукции, которую не травили удобрениями. Эми Ван Меегерен успешно сбывала свои тыквы, красную и желтую свеклу, помидоры, мед, яблоки и чернику по очень приличным ценам.
Увидев Лео, она уронила все, что несла, полетела к нему, обняла и прижала к себе, плача от счастья. От волос Эми пахло костром, а от ладоней землей – Лео почувствовал это, когда она коснулась его щек.
– Господи, они тебя отпустили…
Ее голос звучал привычно мягко, что не обмануло Лео: главной в семье всегда была миссис Ван Меегерен. Трудные решения принимала она. Нежность матери естественным образом сочеталась с властностью, которую никто не пытался оспорить.
– Откуда эти следы у тебя на лице? – спросила она, и ее глаза потемнели от гнева.
– Так, ерунда…
– Правда?
– Конечно.
Эми нахмурилась, помолчала, как будто решала, стоит ли задавать следующий вопрос, и все-таки спросила, глядя Лео прямо в глаза:
– Ты ведь не вернешься к прежним делам?
– О чем ты?
– Сам знаешь…
Таким же тоном она могла бы отчитать его за гипотетическую кражу лакрично-клубничных «твизлеров»[77].
– Нет, мама, с этим покончено. Я остепенился! – Лео улыбнулся.
– Обещаешь?
– Обещаю! – произнес он торжественным тоном.
Он дал слово матери, хотя противный внутренний голосок бубнил: «Не клянись, если не уверен…»
17
Я делаю все, что в моих силах,
И это добрые дела.
Джони Митчелл, «Free Man in Paris»[78]
В Париже Лоррен с головой погрузилась в работу: проводила совещания, приходила рано, уходила поздно, часто последней, выкладывалась до полного отупения, а дома устраивалась перед телевизором в большой гостиной на авеню Барбе-д’Оревильи и без всякого аппетита клевала какую-нибудь незатейливую еду. В субботу и воскресенье она до изнеможения бегала вокруг Марсова поля или сквера на авеню дю Бретёй, и ее не пугали ни дождь, ни ветер. Лоррен отвергала все приглашения, предпочитая этому ТВ-запой – она смотрела сериалы целыми сезонами, ее выручали стриминговые сервисы Netflix, OCS и Canal+.
В ней что-то изменилось.
Лео Ван Меегерен нанес ей последний удар отбойным молотком, довершив подрывную деятельность таинственного Преследователя. Шли дни, молодая женщина стремительно увядала, и два Поля, незаметно наблюдавшие за ней, то и дело переглядывались с растущей тревогой и в конце концов решили вмешаться.
Однажды в дождливую сумрачную погоду, какой Париж часто радует горожан, они дождались, когда все покинут здание на авеню де ля Гранд-Арме, и пришли в кабинет Лоррен. Поль-Анри Саломе был, как всегда, кричаще элегантен в сшитом на заказ костюме в «дипломатическую полоску», пестром галстуке, с платочком в тон в кармане пиджака и швейцарскими часами «Патек Филипп Наутилус» на браслете из золота и стали. Длинный бледный Поль Буржин, одетый во все черное, напоминал протестантского пастора. Лоррен оторвалась от бумаг и напряглась.