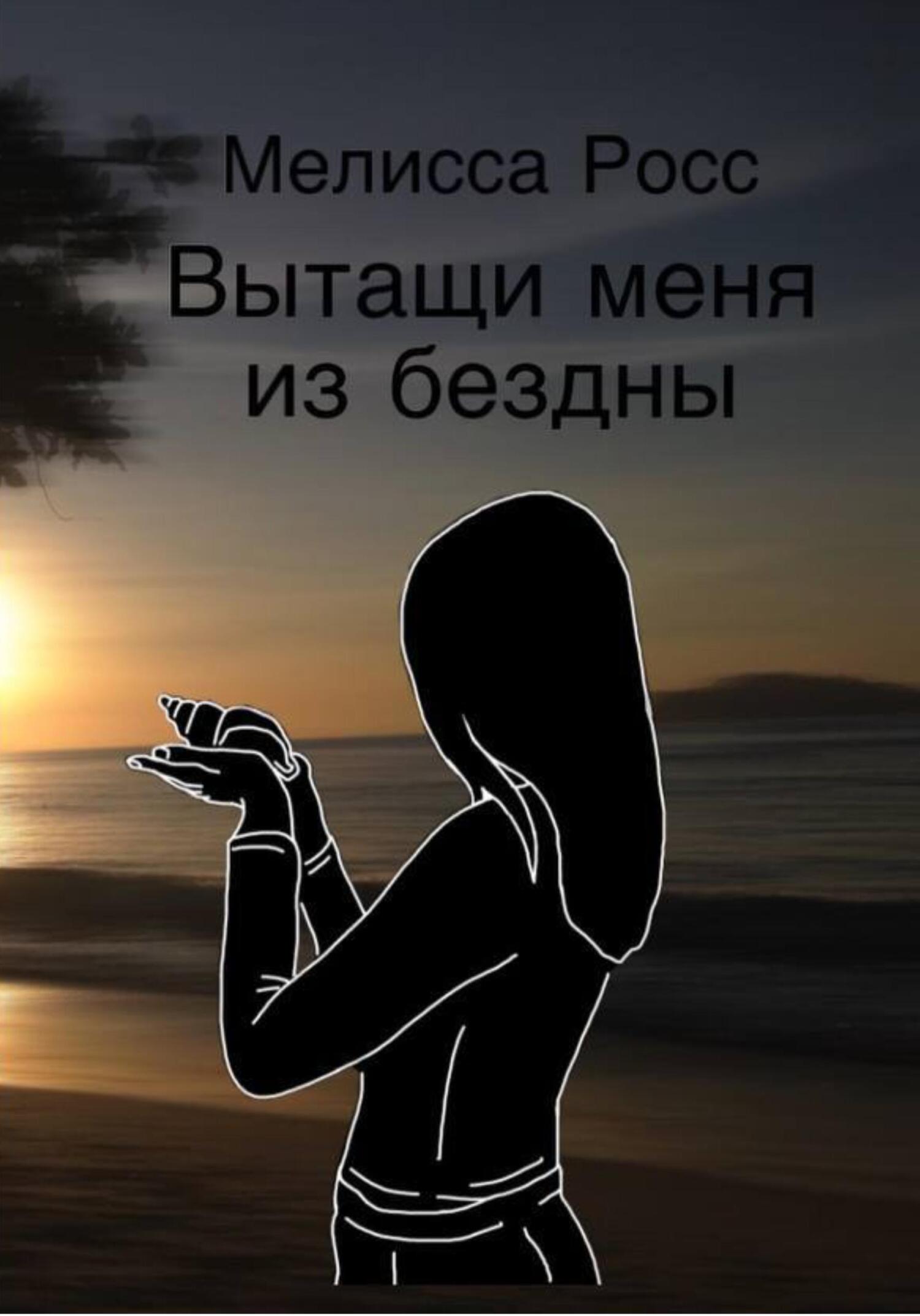поводы.
— Каким маскарадом?
— Боже мой! Да вашими собачьими ушами, не в обиду вам будь сказано.
— Тут нет перемены, — отвечал он, мне. Фуражка старика точно стала меня преследовать.
Она попадалась мне на глаза в течение целого дня. В первое время моей службы, когда старик еще питал пристрастие к светлым локонам, он надевал их только ночью. Теперь же он не расставался больше с длинными темными прядями, которые все время лоснились, прекрасно смазанные маслом из-под сардин... Это придавало ему вид головы, выставленной на окне у парикмахера, с той только разницей, что парикмахеры не выбирают черепов для того, чтобы украшать их поддельными локонами из лошадиных волос, а предпочитают розовые головки кукол, изображающих прекрасных дам...
Еще одна неделя протекла тихо, медленно, над моим сердцем, полным до краев. Я пел внутри себя. Птицы моей любви расправляли свои крылья и я не обнаруживал моей радости лишь из страха навлечь на них гнев чудовища.
Однако, накануне моего отпуска я не мог удержаться. В конце ужина, когда уже можно помечтать после еды, я сказал:
— Нет, старина, окончательно не хватает бабы. Я, кажется, скоро женюсь. Можно узнать, что вы думаете на счет женитьбы?
Старик пристально посмотрел на меня, продолжая жевать свой хлеб, и принялся клохтать, точно курица.
— Нечего смеяться над товарищем, — резко сказал я ему, задетый его поведением.
В это время мы резали сыр, и наши ножи резко блестели, погружаясь в мягкий разложившийся жир молока.
За дверями жаловался ветер, стараясь, точно какое-то животное, просунуть в одну из щелей свою задыхающуюся морду, и дуя в нас своей усталостью.
Мы оба тоже устали хранить наши тайны.
У меня во всех моих словах сквозила любовь.
От старика веяло смертью, и мне казалось, что наш сыр зеленел и все больше разлагался под нашими ножами.
— Может быть да... может быть нет, — проворчал он между двумя ломтями хлеба.
Это меня подбодрило.
— Вы понимаете, старина, ведь это не жизнь! Нет смысла ждать, пока меня повысят. Впрочем, дело не за деньгами. Когда человек не богат, то он все-таки всегда может отыскать кого-нибудь еще беднее его и сделать его счастливым. Как раз, я нашел, мне кажется, именно то, что мне подходит: девушка одной бедной старухи, настоящая бретонка с мыса за Брестом. Правда, она очень молодая, худенькая, совсем ребенок, но ей не долго подрасти.
Мы с ней согласились. Еще один год, и она достигнет такого возраста, что нам можно будет жениться, а мне придется привыкнуть совершать прогулки каждые две недели. Морское начальство любит порядок в историях с бабами. Не могу же я, вы понимаете, каждый месяц менять направление... один раз девки со стороны Арсенала, другой — с поселков.
Нет, это неопрятно... а завести себе любовницу так не хватит на нее денег!.. Принимая все это во внимание, я нахожу, что для смотрителя одной из государственных башен, самое приличное и самое подходящее это иметь настоящую жену. Вы понимаете, господин Барнабас? — И я прибавил несколько меланхолическим тоном: — у меня нет никого из старших, кроме вас... так вот я будто прошу вашего благословения.
Он хрюкал, жевал, глотал и наконец вымолвил;
— Ты будешь с рогами, парень.
— Что за мысль! Я думаю не больше, чем всякий другой.
— Ты будешь рогатым.
И он принялся смеяться.
Это меня очень рассердило,
— Старший, вы совершенно не знаете ваших отцовских обязанностей. Я молод и нуждаюсь в поддержке.
— Женщина в семье — несчастье.
Он окончательно спятил, этот старик. Что же это за семья, без женщины?
— Я не питаю особой любви к утопленницам, заявил я, поднимаясь, готовый дать отпор возможному нападению.
Он даже не двинулся, удовольствовавшись клохтанием.
— Да, да, — заворчал он снова, — женщины... вы на них очень падки, а они, — продолжал он, протянув руку к эспланаде, — не особенно часто показывают вам свои ляжки. Это вас выводит из себя. Я их перевидал таких красивых, молодых, больших и маленьких... все здешние парни привозили мне их в своих рубашках, возвращаясь из отпуска... они тоже стирали свое белье... как и ты... они были деликатного воспитания... а потом они расставались со своей рубахой, как это, в один прекрасный день, сделаешь и ты, чтобы быть ближе к своей коже, так как лучше нашей кожи нет ничего... в конце концов вы все, ты и другие, преспокойно останетесь здесь, поджидая прилива...
Я смотрел на старика, сжимая кулаки. Я горел от стыда за него с его безумием. Я с каким апломбом он упорствовал в нем...
Настоящее преддверие ада, специально созданное для меня! И мне нужно будет жить его жизнью,, слушать его... даже когда он молчит... Мне стало страшно.
— Господин Барнабас, у вас никогда не было жены, законной?
— Может быть, да... может быть, нет.
Настало глубокое молчание. Он перестал есть, и, опустив голову, вытирал нож о зад своих штанов.
— Это было так давно, — прибавил он почти обыкновенным голосом.
Я снова осмелел:
— Расскажите мне эту историю... дед Матурен.
— Не стоит, ты сам узнаешь ее в свой черед.
— Вам бы не мешало меня... предостеречь в качестве доброго товарища.
Я пододвинулся к нему и положил ему на плечо руку.
У меня было больше жалости, чем уважения к этому странному старшему, за которым, по приказанию морского начальства, я должен был следовать со ступеньки на ступеньку вдоль лестницы маяка. Мне хотелось просто несколько облегчить его сердце, так же, как из сострадания; я чистил, каждое утро знаменитые колонки коробок из-под сардин, которые он собирал с двух сторон нашего камина.
Он вздрогнул и поднял свои мертвые глаза,, загоревшиеся вдруг фосфорическим блеском.
Иногда бывает, что гнилушки светятся, а утопленники, которых море скрывает в своем голубом чреве, нет-нет да покажут свои сверкающие глаза во время легкого ветра, когда волны теплы.
— Ты шпион, Жан Малэ? — проворчал старик с раздувающимися ноздрями.
— Дед Барнабас, если бы вы были моих лет, вам бы пришлось выйти со мной на эспланаду. Вот уже три раза вы меня назвали шпионом. Я не желаю этого слышать в четвертый, у меня не особенно много терпения.
Он поднялся, схватил фуражку.
— Пора наблюдать. Жениться тебе или не жениться, это не мое дело. Я охраняю башню. А ты, ты охраняй сам себя от несчастий. Я поднимаюсь. Ты идешь?
Он заботливо