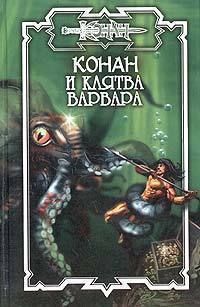поддерживаются. Но, разумеется, никто их не запрещает, их не подвергают гонению и осмеянию. Просто чтобы лишний раз не привлекать к ним внимание и не создавать дармовую рекламу. Адепты иных стилей могут продавать свои труды кому и как хотят, снимать залы по рыночным ценам и устраивать выставки. Я была однажды на такой выставке: в основном, они смотрят сами себя, то есть друг друга. Внешней публики я там вообще не заметила. Ну и хвалят, как петух и кукушка. Словом, другие стили существуют, но на периферии общественного внимания. В государственных учреждениях абстрактной и всякой там авангардной живописи нет, а в частных — пожалуйста, сколько угодно. Любые инсталляции и перфомансы за собственный счёт. Но покупают их неохотно. Ведь кто обычно покупает картины, особенно дорогие? Предприниматели. А они — жуткие конформисты, стараются примазаться ко вкусам власти. Но главное даже не это, а то, что простые люди любят красивое и реалистичное, а предприниматели в подавляющем большинстве — простые люди.
— Потрясающе! Неужели всё так просто? — удивился Богдан.
— Именно так, и даже ещё проще. Не зря говорят, что история искусства — это история заказчика. В России появился достаточно богатый и уверенный в себе заказчик.
— Уверенный в себе настолько, чтобы назвать неумелую мазню мазнёй и сказать: «Унесите это немедленно!»? — улыбнулся Богдан.
— Ты всё правильно понял, не зря я всегда говорила, что ты жутко умный, — Прасковья на мгновение прижалась к его плечу.
— Умный, да, но как-то по-дурацки, — вздохнул Богдан. — Скажи лучше, кто этот уверенный в себе искусствовед?
— Ну, в первую очередь министр культуры. За ним, как мне кажется, стоит Государь, который увлечён сталинским ампиром и исторической живописью, впрочем, это моё приватное наблюдение. А так — есть комиссия, которая разрабатывает общую политику. Я тоже в неё вхожу. Мы разрабатываем общие принципы, а Академия художеств формулирует их в терминах, понятных преподавателям художественных заведений, самим художникам. Это оказалось гораздо проще, чем даже представлялось вначале. Главное, формулировать требования в положительной форме. Это, кстати, самое трудное. То есть говорить о том, что надо и правильно, а не о том, чего не надо и что неправильно. И повторять, повторять, повторять. И упорно искать таланты. Это критически важно. Вытаскивать и поощрять, выдвигать, если надо — учить. Это работа на десятилетия, можно сказать, навсегда. В этом, собственно, и состоит культурная политика — в формулировании принципов в положительной форме и в поощрении талантов и их правильного поведения.
— Потрясающе… — задумчиво проговорил Богдан. — А почему же в Советском Союзе это не получилось?
— Получилось. Превосходная живопись, музыка, поэзия. Другое дело, что всё это потом пошло прахом. Ошибка была в том, что гнобили всех альтернативщиков. Их следовало просто предоставить себе — всех этих абстракционистов и иже с ними, и они бы вымерли сами по причине недостатка общественного интереса. Но тогда было всё огосударственно, и частник не мог даже зал снять. Их по-дурацки разгоняли, чем и подогревали общественный интерес к ним.
В 70-е годы была так называемая «бульдозерная выставка». Какие-то абстракционисты что-то выставили в Измайлове, кажется. И их разогнали, чуть ли не бульдозером. Что за убожество мысли! Ну дали бы показать своё искусство. Никто бы ими не заинтересовался, и всё бы рассеялось само собой. Честное слово, советские начальники эпохи упадка заслужили своё место на свалке истории.
Поедем что ли? Посмотрим, как поведёт себя товарищ в углу.
Товарищ, как и предсказывал Богдан, тотчас поднялся и направился на стоянку.
Гостиница оказалась очень стильной: старинный двухэтажный домик тёмно-красного кирпича с белой окантовкой окон. Формально — за территорией монастыря, но на самом деле совсем рядом и, вероятно, прежде относился к монастырю. Внутри — кирпичные стены, дощатый пол, белые льняные занавески и льняное постельное бельё. Расшитая незабудками салфетка на маленьком круглом столике и умилительная вышитая дорожка с мережкой, наброшенная на телевизор. На вышитой круглой салфетке — букет белых роз в белой фаянсовой крынке, напомнившей бокастый кувшин, тоже белый, который в прошлой жизни стоял у них на журнальном столике из окрашенных паллет. Икона Богоматери с зажжённой лампадкой, на которую, войдя, перекрестился Богдан.
Новая сантехника в стиле ретро. И даже вышитые тапочки.
— Надо же, и тут незабудки… — словно про себя проговорил Богдан.
— Монашки, наверное, вышивают, — предположила Прасковья.
— Вряд ли, — улыбнулся Богдан, — монастырь мужской. Впрочем, может, у них кооперация. Смотри, тут написано, что, если хочешь взять их с собой, вот цена.
— Потрясающе! — она обняла Богдана за шею. Хотела повиснуть, как когда-то, но не решилась: вдруг ему будет тяжело? Впрочем, с тех пор как она висла у Богдана на шее, она даже похудела на пару килограммов. — Как тебе удалось найти такую прелесть? — она обвела рукой интерьер.
— Я старался… А тебе, правда, нравится? — обрадовался он.
— Ужасно! Похоже… на твою квартиру. И лён, лён, — ей хотелось плакать, но вместо этого она запела, кружась по комнате:
Лён, лён, лён,
Кругом цветущий лен…
А тот, который нравится,
Не в меня влюблён…
— Ты знаешь эту песню? — спросила Богдана.
— Нет, понятия не имею, — покачал головой Богдан. — Знаю только, что для тебя она совершенно не актуальна: тот, который тебе хоть немного нравится, влюблён в тебя по уши. — Он обнял её и немного приподнял над полом, как любил делать когда-то.
— Вот так прокалываются шпионы, — проговорила Прасковья с шутливой поучительностью. — Ты вроде русский, а важной русской песни не знаешь. Значит, в детстве ты тут не жил.
— Я и впрямь не жил, да и шпионом никогда не был, — Богдан ещё раз обнял её. — Доведись быть шпионом, я бы поработал над базовыми текстами, подтянулся.
— Послушай, а букет роз у них тоже элемент интерьера?
— Нет, это я заказал, — он поцеловал её в шею. — И они, видишь, не забыли, исполнили.
— Родной мой, любимый, как я счастлива… Как я тебя люблю, — она нащупала его чертовский рожок. — Словно мы двадцать лет назад в твоей квартире. — Она, в самом деле, была счастлива непрочным, шатким счастьем.
15
— Солнышко моё… А что сталось с нашей квартирой?
— Дом стал музеем. Если хочешь — сходим туда, — в ту минуту Прасковье казалось, что они вот так запросто, держась за руки, пойдут в музей Москвы XVII века.
— Девочка моя любимая… Тебе только по музеям со мной ходить… Разумеется, я был бы рад, но я и в одиночку схожу в тот музей. — Он погладил её по волосам.
— Ну что, будем ложиться?