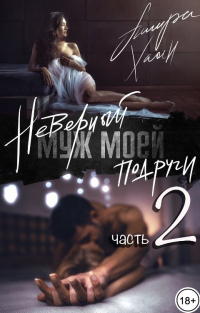и не было в ней особых потрясений и мук творчества.
Он понимал, Света не хотела докучать ему своими проблемами, не хотела «давить слезу» и вызывать сочувствие. Он попросил — она рассказала. Но больше обсуждать это не хотела.
— Эта картина тоже дорогая? — показав на мольберт, спросил он, чтобы сменить тему.
— Да. Очень. После смерти художника все полотна взлетают в цене.
— А её почему не купили?
— Я её не продаю. И никогда не продам, сколько бы она ни стоила, — накрыла она картину и позвала Наварского дальше.
Что-то смущало его во всей этой истории.
Что-то было неправильное в картине, в растерзанной женской наготе, в непринуждённости, с которой Света водила его по комнатам, рассказывая о прежних жильцах, в её словах «я была готова на что угодно».
Во всей той естественности, прямоте и честности, с которой она жила.
Словно всё это её не касались: ни грубость, ни обыденность, ни пошлость во всех её значениях.
Старая кухня с гудящей газовой колонкой, ледяная ванная, где страшно даже руки помыть, не то, что помыться целиком. Тень отца, что повесился на скрипучей балке прямо в мастерской.
И тотальное, абсолютное, как зло, одиночество этой странной девушки с жёлтыми глазами.
Девушки, что продавала роскошь, но жила в нищете. Была дочерью художника, а любила стихи. Девушки, что жила в выдуманном мире, где взрослые дяди дарят заботу хрупким девочкам и ничего не просят взамен.
Не знаю — права ли,
не знаю — честна ли,
не помню начала,
не вижу конца… — читала она ему в тот день.
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада, что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на всё побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.
И это нисколько меня не печалит,-
прекрасен той первой поры неуют…
Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.*
____
*Вероника Тушнова
Наверное, Наварский невольно стал частью её волшебного мира, потому что ничего не просил.
И она не проверяла его на вшивость. Не притворялась, не капризничала, не соблазняла. И в какой-то момент, наверное, перестала бояться, что он поведёт себя как все: схватит за сиську, похабно намекнёт, потребует близости и сломает её, сомнёт, как бумажную балерину.
Но он не сломал, он обозначил границы и ни разу их не переступил.
Разве что сбил её с толку тем сообщением, что написал из гостиницы, на которое получил ответ, что сбил с толку его.
— Где, ты сказал, видел Свету? — возвращаясь в настоящее, снова спросил Наварский у Сокола. То ли он прослушал его ответ, то ли тот так и не ответил. — И зачем ты к ней поехал?
— Где, она тебе сама скажет. А зачем? — Сокол вздохнул. — Да хер знает, наверное, хотел кое в чём убедиться.
Глава 23
— Это в чём же? — хмыкнул Наварский.
Что-то ему подсказывало, Сокол хотел спросить у Светы, правда ли они не переспали. За Соколовым не заржавеет, журналист же. Это сейчас он работал ведущим на радио, но бывших журналистов не бывает — он до сих пор любил совать нос в чужие дела.
В его мире Наварский просто обязан Свету отыметь. По всем законам жанра обязан.
Взрослый мужик и молодая красивая баба — что ещё их может связывать, если не взаимное влечение, не интим, не секс.
Что ещё Наварскому от Светы может быть надо, если не удовлетворение половых потребностей.
Иначе он и не мужик вовсе.
По системе ценностей Соколова десять лет назад, когда у Леры «случился психолог», Наварский тоже наверняка должен был бросить жену.
Она увлеклась другим мужиком. Увлеклась всерьёз. Бегала к нему на встречи, пока Игорь грел бутылочки для грудной младшей дочери и писал палочки в прописях со старшей. Целыми днями переписывалась со своим психологом, сидя со счастливым, блаженным лицом. Забросила всё: мужа, дом, детей. Игорь сам стирал, сам готовил, мыл полы, купал детей, пока жена «искала себя». Такое ведь прощать нельзя.
А он простил. И сохранил любимую женщину и семью.
Поэтому он ничего Соколу и не рассказал, и не только Соколу — никому не рассказал.
Это касалось только их двоих.
Поэтому не хотел рассказывать и сейчас.
— Навара, что ты творишь, твою мать? — выдохнул Сокол.
— Я? — удивился Игорь.
Брюки, пиджак и галстук он уже снял, но ответил на звонок и теперь стоял посреди комнаты в рубахе, трусах и носках, не зная, разговор будет долгим и лучше обратно одеться, или коротким, и он всё же успеет принять душ.
— Она же влюблена в тебя как кошка.
— Кто? — Наварский сел и стал стягивать носок.
— Светка, блядь, кто! — не стеснялся в выражениях Сокол. — Ты уже или еби её по-человечески, или не еби ей мозги. Что ты творишь, а?
Ну кто бы сомневался.
— А что я творю? — разозлился Наварский, бросил носок, встал. — Какого хрена ты вообще разорался? Голос сорвёшь, как работать будешь? — услышал он, как Сокол закашлялся.
— Так