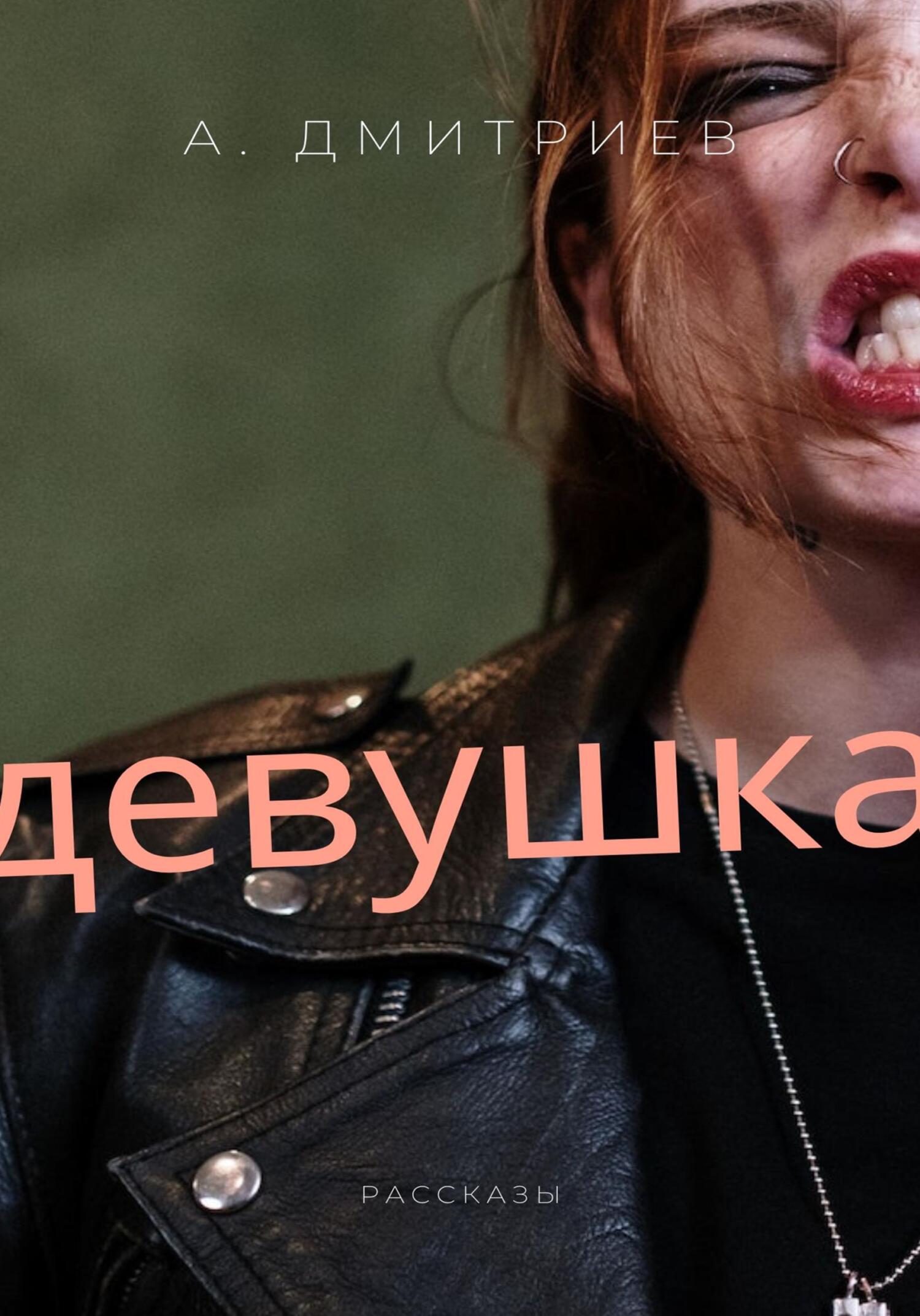где тусклый свет буквально в каждом кадре поглощался тусклой тьмой, и в этих черно-белых тусклых колебаньях тьмы и света передвигались по экрану усатые мужчины с ружьями, в папахах, иногда вздымая руки или ружьями грозя кому-то в горы, которые казались или были сумеречными декорациями, освещенные единственной и где-то спрятанной свечой. Когда Тихонину наскучило гадать: то был брак старой пленки или качество киносъемки времен Энвера Ходжи, – он погасил экран и начал засыпать, отплывая по теплой воде от илистого берега подальше – к середине реки, к желанному жуткому омуту, в прохладный звон и цокотание цикад…
Ему приснился Иоаннидис. С серых холмов, как сель, сходила черная толпа, текла и шла повсюду – по тропинкам, среди свинцовых трав и листьев; Тихонин сам был в той толпе, страшась удушья, но был он и над нею, в стороне, на склоне, и видел ее всю: все черные потоки греческой родни Фионы – тут замелькал в толпе, внизу, но оказался и вплотную рядом Иоаннидис; Тихонин оробел, но тут же рассмеялся, будто ношу сбросил, как только вспомнил, что он знал его всегда и никогда не забывал. Окликнул радостно, но Иоаннидис не услышал вдалеке, пришлось и в бок его толкнуть: «Эй, Иоаннидис!» – Тот отозвался: «А, это ты?.. И как тебе всё это?» – «Довольно грустно, – признался сам себе Тихонин, – но на то они и похороны. И очень жарко это все». – «Да, было жарко, – согласился Иоаннидис, – но теперь холодно». – «Да, верно, очень холодно. А я не обратил внимания». – «Очень холодно, – эхом отозвался Иоаннидис. – Сейчас бы темного вина с глюкозой». – «Ну вот! – обрадовался Тихонин. – Ты мне сказал о выпить сладкого албанского вина, и я тут же догадался, на кого ты так похож: на Побегалова, конечно; ты должен помнить Побегалова…» – «Но это я и есть, Тихоня, – ответил Иоаннидис. – Я был Побегаловым, пока не умер». – «Мне очень жаль». – «Все не так плохо. Я умер, как и надо, Иоаннидисом – и видишь, сколько собралось народу». Тихонин оглядел свинцовые холмы: «Но я не вижу Спиридония». – «Ты о святом? Его нельзя увидеть». – «Нет, я о нашем Спиридонии». – «Он где-то здесь, – заверил Иоаннидис, – но ты же слышишь эту музыку? Ее не звали, он ее совсем не терпит, и не захотел показываться». – «Конечно, слышу, – сказал ему Тихонин и услышал, и не захотел показываться: она текла, ползла с холмов, будто глюкоза. – Я понимаю Спиридония, – сказал он Иоаннидису. – Я ее помню. Два певца, две патоки, две мужские кошки…»
Ударил свет снаружи, и Тихонин, вмиг проснувшись, открыл глаза. Атанасио стоял над ним. По комнате, вздымая и опуская шторы, вовсю разгуливал прохладный ветер; дверь на балкон поскрипывала; там было темно, и цикад уже не было слышно. Откуда-то неподалеку текла и била в голову музыка, чем-то знакомая Тихонину…
– Хорошо отдохнул?
– Да, – сказал Тихонин. – Уже ночь?
– Скоро ночь, – ответил Атанасио. – Я сожалею: Спиридоний задержался на поминках… Дай мне свой мейл, я напишу тебе, когда он даст о себе знать, и вы с ним как-нибудь встретитесь.
Музыка накатывала из темноты липкой волной, и Тихонин наконец узнал ее. Пытавинская танцплощадка, оренбургский дом культуры, советские вечеринки на флэтах – ансамбль «Модерн токинг»: два певца, две патоки, две кошки… Спросил:
– Всегда так громко?
– Ужасно, – согласился Атанасио. – Это на вилле здесь неподалеку. Там никто не живет. Новые хозяева сдают ее для больших party. Те приезжают целыми автобусами и гуляют допоздна под музыку. Наши постояльцы жалуются; боюсь, мы их растеряем всех. Мало нам пандемии?.. Ужасно.
Он довез Тихонина до супермаркета на все том же детском мотороллере и, простившись, укатил во тьму. При ясном свете окон супермаркета Тихонин без труда нашел свой «ситроен», более-менее остывший, и через несколько минут был в Мораитике. Пансионат спал, все его окна были погашены, и лишь вода бассейна сияла голубой подсветкой. По плечи в голубой воде, одной рукой держась за бортик, стоял одинокий купальщик и с кем-то тихо говорил по телефону. Тихонин различил польскую речь, и шла она о некоем Чеславе и о его больной собаке, которую совсем напрасно тот привез с собой на Корфу, и теперь он без нее здесь – никуда… Не заходя в номер, Тихонин разделся и окунулся с головой в бассейн, в его прохладное сияние. Немного погодя и лишь затем, чтобы проверить свой польский, он заговорил с купальщиком и от него узнал, что с высокой горы, вздымающейся позади пансионата, открывается неслыханно красивый вид во все стороны. Чтобы не подниматься в гору по жаре, лучше всего начать подъем перед рассветом с тем, чтобы кстати уж и встретить рассвет на вершине… Укладываясь спать, Тихонин установил будильник в телефоне на пять часов утра.
Он вышел затемно, подсвечивая путь перед собой телефонным фонариком, чтобы не споткнуться или же не наступить на кошку, из тех, что, расплодившись, шныряли и дремали на всех газонах и дорожках вокруг пансионата, – и не пропустить подсказанный поляком выход к тропе, ведущей в гору. Тропа – каменистая, бугристая и узкая, наглухо скрытая во тьме от света звезд кронами деревьев, сомкнутыми над нею, начиналась сразу за короткой, в пять дворов, деревенской улицей и дальше поднималась круто вверх, петляя сквозь кустарник, то и дело царапавший Тихонина своими ветками и колючками. Он выключил фонарик, чтобы телефон не разрядился до рассвета. Упрямо и угрюмо шел вперед и вверх, испытывая крутизну тропы, нащупывая верный путь тонкими подошвами сандалий, усмиряя в себе детскую боязнь сбиться с него, заплутать в колючках, даже и сорваться в темноте со склона – но и посмеиваясь нервно над собою, над нелепостью того, что с ним происходит: куда, с какого глузду понесло его в ночи?
Ноги с отвычки ныли, ступни, ступая по буграм и по камням тропы, стали сплошной болью, глаза никак не привыкали к темноте; Тихонину уже казалось, что эта ночь, единственная из всех ночей в природе и во времени, вообще никогда не кончится, как и не кончится тропа, должно быть, в наказание ему – и никому другому, ведь ничьего дыхания, кроме его тяжелого дыхания, во всех горах вокруг не то чтобы услышать, но и представить было невозможно. Да, в наказание и в назидание, смысл которого разгадывать нет сил… Таким был голос страха и усталости, но ум тоже не молчал, напоминая: рассвет, однако, неизбежен. И – точно: за шестым по счету поворотом тропы, там, где она ощутимо раздавалась вширь, из глухих колючих зарослей и из темных крон над головой начал сочиться поначалу слабый серый свет… На восьмом, как подсчитал Тихонин, повороте тропы, на самом ее сгибе, он выбрался на тесный выступ на краю горы и сквозь свисающие ветви двух неведомых деревьев увидел с высоты перед собой Ионическое море и тени гор материка на просыпающемся горизонте… И море, оживая, наливалось, словно изнутри, холодным светом; казалось, этот стальной свет поднимается со дна, сам по себе, не дожидаясь солнца, застрявшего в пути где-то за горами. Разливаясь исподволь повсюду, свет промывал уже и небо над морем, над горами, все резче их очерчивая, а солнце не спешило показаться… Тихонин приостановил подъем к вершине, чтобы не упустить зрелище рассвета, дождаться его здесь, на склоне горы, – и он дождался. Красное солнце выглянуло из-за греческих или албанских гор, неважно; помешкав, вдруг подпрыгнуло и повисло в небе над ними. Тихонин сделал телефоном