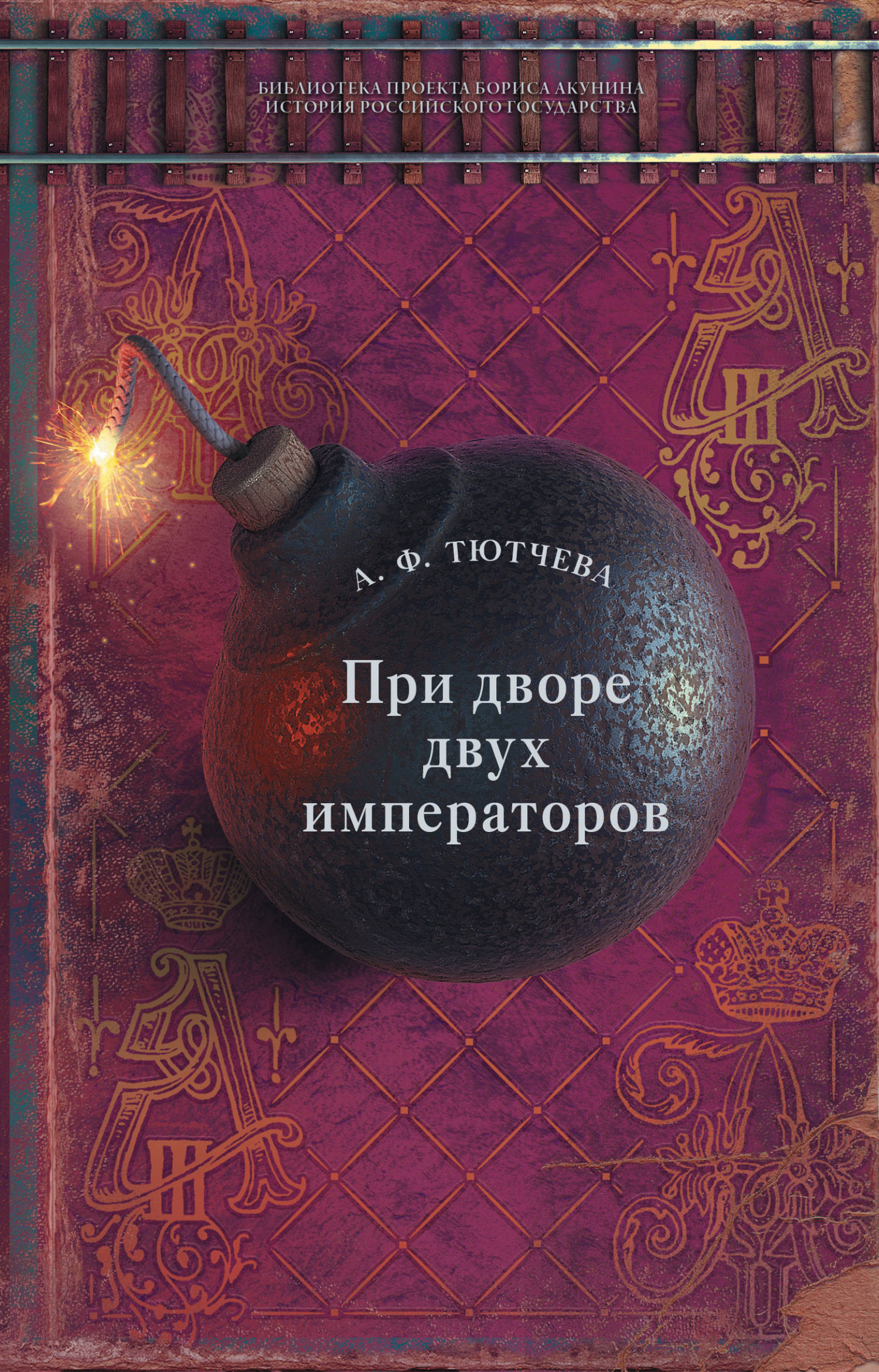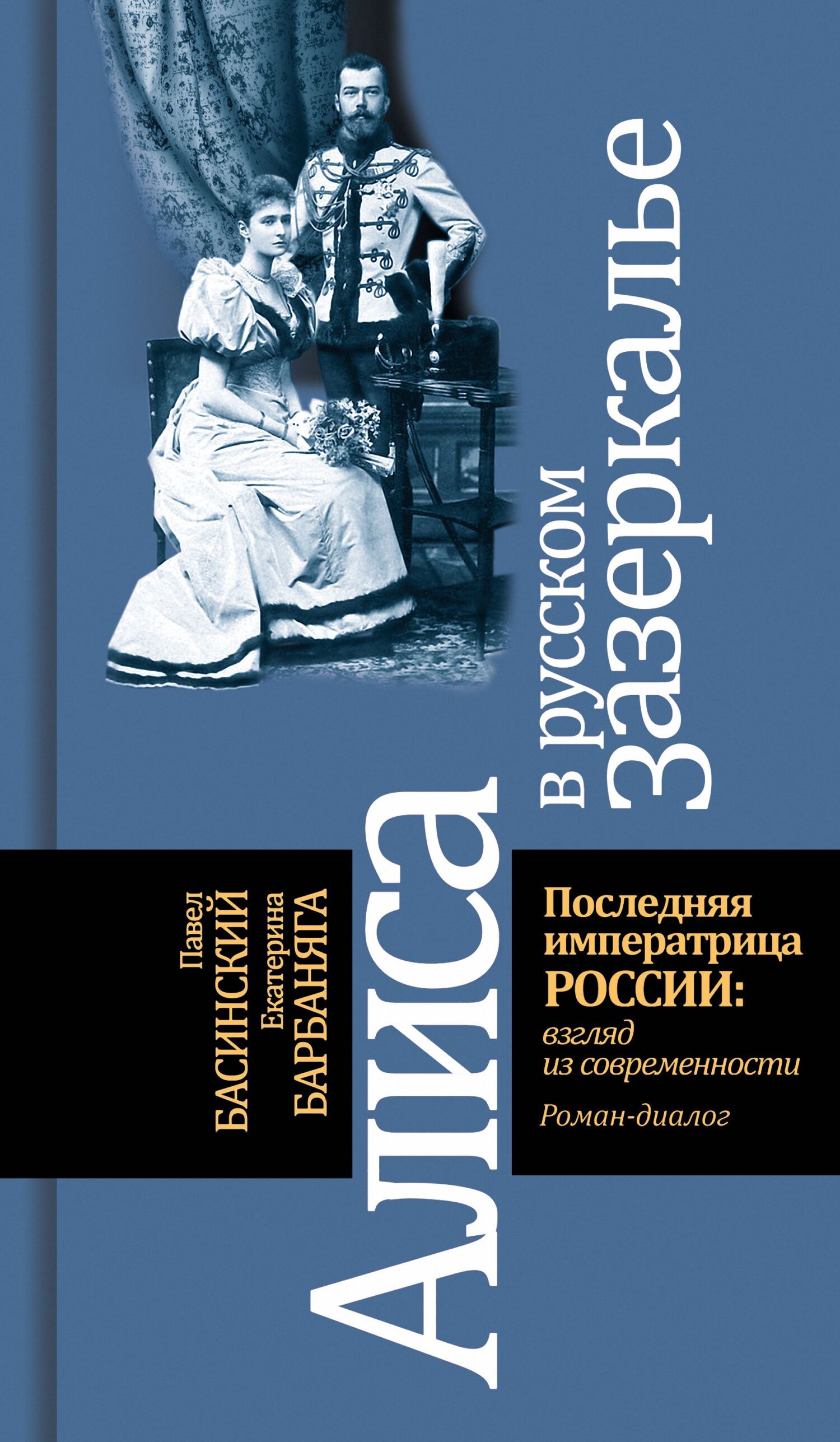Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 81
достаточно боевых патронов. Как бы подтверждая слова государя, началось поражение за поражением; одна крепость падала за другой, отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец, Варшаву. Я помню вечер, когда императрица и я сидели на балконе в Царском Селе. Пришел государь с известием о падении Варшавы; на нем, как говорится, лица не было; он почти потерял свое всегдашнее самообладание. «Так не может продолжаться, – воскликнул он, ударив кулаком по столу, – я не могу все сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромят армию; я вижу ошибки – и должен молчать! Сегодня говорил мне Кривошеин, – продолжал государь, – указывая на невозможность подобного положения».
Государь рассказывал, что великий князь Николай Николаевич постоянно, без ведома государя, вызывал министров в Ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России. После падения Варшавы государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или государыни, встать самому во главе армии; это было единственно его личным, непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побежден. «Если бы вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии», – говорил неоднократно государь.
Свидетельствую, так как переживала с ними все дни до его отъезда в Ставку, что императрица Александра Феодоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге Жильяр, и что будто из-за сплетней, которые я распространяла, о мнимой измене великого князя Николая Николаевича, государь решил взять командование в свои руки. Как мало государь обращал внимания на такие толки о великих князьях, доказательством служит тот факт, что он не обратил внимания на известное письмо княгини Юсуповой, о котором пишу в главе XI. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть великого князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моем присутствии.
Ясно помню вечер, когда был созван Совет министров в Царском Селе. Я обедала у их величеств до заседания, которое назначено было на вечер. За обедом государь волновался, говоря, что, какие бы доводы ему ни представляли, он останется непреклонным. Уходя, он сказал нам: «Ну, молитесь за меня!» Помню, я сняла образок и дала ему в руки.
Время шло. Императрица волновалась за государя, и, когда пробило 11 часов, а он все еще не возвращался, она, накинув шаль, позвала детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные шторы в ярко освещенной угловой гостиной были видны фигуры заседающих; один из министров, стоя, говорил.
Уже подали чай, когда вошел государь, веселый, кинулся в свое кресло и, протянув нам руки, сказал: «Я был непреклонен, посмотрите, как я вспотел!» Передавая мне образок и смеясь, он продолжал: «Я все время сжимал его в левой руке. Выслушав все длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так: „Господа! Моя воля непреклонна, я уезжаю в Ставку через два дня!“ Некоторые министры выглядели как в воду опущенные!» Государь назвал, кто более всех горячился, но я теперь забыла и боюсь ошибиться.
Государь казался мне иным человеком до отъезда. Еще один разговор предстоял государю – с императрицей-матерью, которая наслышалась за это время всяких сплетен о мнимом немецком шпионаже, о влиянии Распутина и т. д. И, думаю, всем этим басням вполне верила. Около двух часов, по рассказу государя, она уговаривала его отказаться от своего решения. Государь ездил к императрице-матери в Петроград, в Елагинский дворец, где императрица проводила лето. Я видела государя после его возвращения. Он рассказывал, что разговор происходил в саду; он доказывал, что если будет война продолжаться так, как сейчас, то армии грозит полное поражение, и что он берет командование именно в такую минуту, чтобы спасти Родину, и что это его бесповоротное решение. Государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга.
Перед отъездом в армию государь с семьей причастился святых тайн в Федоровском соборе; я приходила поздравлять его после обедни, когда они всей семьей пили чай в Зеленой гостиной императрицы.
Из Ставки государь писал государыне, и она читала мне письмо, где он писал о впечатлениях, вызванных его приездом. Великий князь был сердит, но сдерживался, тогда как окружающие не могли скрыть своего разочарования и злобы: «Точно каждый из них намеревался управлять Россией!»
Я не сумею описать ход войны, но помню, как все, что писалось в иностранной печати, выставляло Николая Николаевича патриотом, а государя орудием германского влияния. Но как только помазанник Божий встал во главе своей армии, счастье вернулось русскому оружию и отступление прекратилось.
Один из величайших актов государя во время войны – это запрещение продажи вина по всей России. Государь говорил: «It is horrid the government would profit through the people’s drinking, in this matter Kokovtzov is in fault» («Ужасно, если правительство будет извлекать доход из народного пьянства, в этом Коковцов[35] не прав»). «Хоть этим вспомнят меня добром», – добавил он.
Государь от души радовался, когда слышал, как крестьяне богатеют и носят свои сбережения в Крестьянский банк. Французский писатель Anet пишет: «C’est Nicolas II, c’est l’Empereur detrone qui a garde l’honneur d’avoir realise la plus grande reforme interieure qui a ete accomplie»[36].
В октябре государь вернулся ненадолго в Царское Село и, уезжая, увез с собой наследника Алексея Николаевича. Это был первый случай, когда государыня с ним рассталась. Она очень о нем тосковала, – и Алексей Николаевич ежедневно писал матери большим детским почерком. В 9 часов вечера она ходила в его комнату молиться – в тот час, когда он ложился спать.
Государыня весь день работала в лазарете. Железная дорога выдала мне за увечье 100 000 рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали с 60 человек, а потом расширили до 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть нескольким облегчить их жизнь в будущем. Ведь по приезде домой на них в семьях стали бы смотреть как на лишний рот! Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплетчиков. Лазарет этот сразу удивительно пошел, но и здесь зависть людская не оставляла меня: чего только не выдумывали. Вспоминать тошно! Но что впоследствии, и может быть не раз, мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции, показывает, что все же есть люди, которые помнят добро.
Невзирая на самоотверженную работу императрицы, продолжали кричать, что государыня и я – германские шпионки. В начале войны
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 81