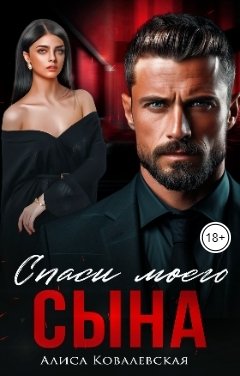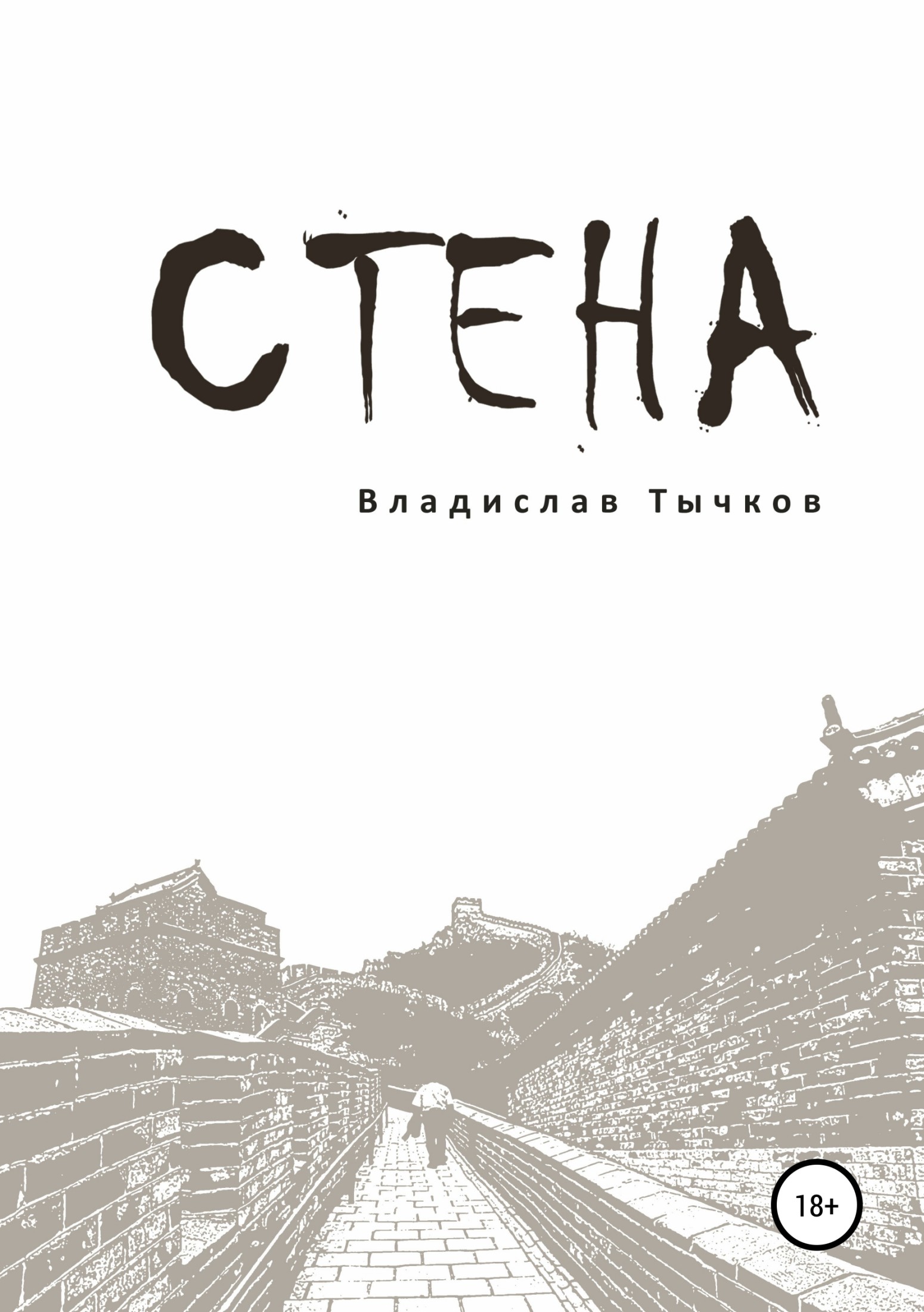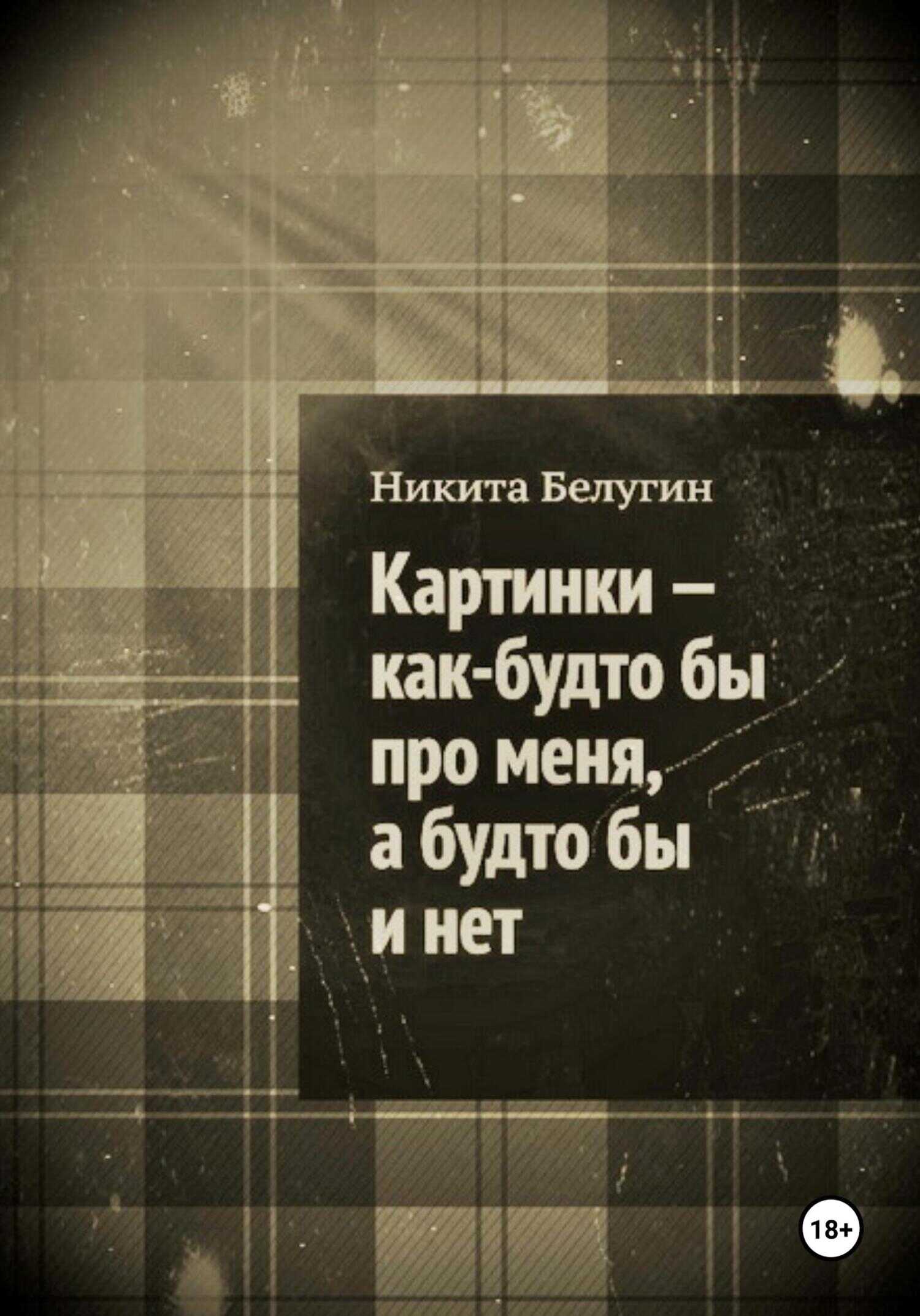поднимает руки и платье струится по ее телу. Словно занавес, закрывающийся после прекрасного спектакля.
— Хорошо, и что ты намерен делать?
Котлер снова взглянул на часы, хотя смотрел на них всего минуту назад.
— Если бы знать где, я бы раздобыл газету. И от чашки кофе не отказался бы.
— Очень хорошо, — сказала Лиора и направилась к двери.
— Не стоит, Лиора, — сказал Котлер.
— Почему не стоит? Если ты решился, зачем откладывать? Я разбужу хозяйку. Попрошу у нее газету и кофе. И можно будет сразу перейти к делу. Раньше начнем — раньше закончим. Разве ты не этого хочешь?
— Наверное, именно этого. Ты, как всегда, умеешь брать быка за рога. Мне представлялось, что это будет как-то грандиозно, хитроумно обставлено, но, видимо, все произойдет куда прозаичнее. Такое в жизни сплошь и рядом — думаешь, опера, а на деле оно оперетка. И это в лучшем случае. Но все равно я бы предпочел действовать цивилизованно. Не хлопать дверьми. Не поднимать никого с постели. Время для этого ушло.
— А как по мне, Барух, так вовсе даже не ушло.
— Возможно. Но сделаем вид, что это так, и будем надеяться, что мир преисполнится благородства и последует нашему примеру.
— Лично мне ни капли не смешно.
— Знаю, — сказал Котлер.
Лиора остановилась на полпути к двери, посмотрела на него.
— Хочешь узнать, что случилось в тот последний вечер, который мы с этим человеком провели у него дома? — спросил Котлер. — Ты не раз говорила, что любишь истории о славном прошлом. Эту историю я тебе не рассказывал. Да и вообще никому, насколько мне помнится. Может, только нескольким товарищам по камере и Мирьям. Потому что тут и рассказывать особо нечего. Ничего примечательного. Незначительный эпизод, не более. Даже в мои мемуары издатель решил его не вставлять. Итак, история последнего вечера, который мы с Владимиром Танкилевичем провели под одной крышей.
Лиора вздохнула и медленно направилась к кровати. Села на краешек и уставилась на Котлера взглядом человека, помимо воли поддающегося гипнозу. Котлеру хотелось отойти от окна, сесть, как прежде, рядом, но он сдержался. Предыдущий день, предыдущий час все изменили. И виноват в этом был он. И пока еще в его власти было все изменить. Только, он знал, ничего он менять не станет. Человек не может проживать две жизни. Он обязан выбрать одну, и он свою выбрал.
— Хорошо, Барух, расскажи. Расскажи, и вернемся к нашему делу.
Лиоре, как и миллионам других людей, было прекрасно известно его житие. Молодой человек, некогда музыкант, а ныне специалист в области информатики, заявляет, что хочет разделить судьбу еврейского народа, и намеревается уехать из Советского Союза в Израиль, на историческую родину. В Министерстве внутренних дел ему, как водится, без всяких на то оснований отказывают в разрешении на выезд — якобы из соображений секретности, хотя те технические знания, которыми он владеет, на Западе давно устарели. Его клеймят как предателя, увольняют с работы, объявляют преступником, потому как не работать в стране рабочих — преступление. Он влюбляется в молодую женщину, тоже сионистку; они быстро женятся в надежде связать свои судьбы, но тут же расстаются: ей, тоже безо всяких оснований, дают разрешение на выезд, ему — опять нет. Ожидая, когда ему удастся воссоединиться с женой, он погружается в активистскую деятельность, и КГБ подсылает к нему провокатора, тоже еврея. Его обвиняют в государственной измене, устраивают показательный процесс и приговаривают к смертной казни, но позже под давлением международной общественности вместо пули в голову присуждают тринадцать лет тюрьмы. И все это время он не отступает, никогда не отступает! И наконец — победа! — его освобождают.
В его жизни, конечно, было многое другое. Второстепенные заметки и эпизоды, не такие впечатляющие, но оставившие в нем глубокий след. Как, например, его последний вечер дома у Танкилевича. Ведь Танкилевич пригласил его к себе пожить, когда Котлеру было некуда податься. Мирьям уехала в Израиль. Небольшая их квартирка была записана на нее, и после ее отъезда (а среди отказников существовало негласное правило ехать, если выпускают) ему пришлось очистить помещение. Оставшись без работы и без жилья, он ночевал по очереди у других отказников и просто сочувствующих — неделю тут, неделю там. Все его вещи умещались в небольшом чемоданчике. Вскоре он станет самым известным отказником в мире, а пока он — нищий, чьими пожитками побрезгует и старьевщик. И тут, с немалым риском для себя, Танкилевич приглашает его к себе. До того момента Котлер знал его весьма поверхностно; Танкилевич появился среди них год назад. Представился сионистом, заявил, что ему отказали в разрешении на выезд, — и ему поверили на слово. Если КГБ и внедрял шпионов в их ряды, что тут поделаешь. Вся их деятельность: курсы иврита, седеры на Песах, небольшие публичные демонстрации — с правовой точки зрения была законна.
Они странно смотрелись рядом. Танкилевич — почти на десяток лет старше, видный холостяк, и Котлер — лысеющий, юркий шмендрик. Танкилевич был зубным техником и обслуживал отказников — ставил им зубные протезы, пломбы, коронки. Как якобы получившему отказ, работать официально ему не разрешалось. Смысл этого запрета был ясен: разве можно допустить отказника к золоту и серебру? Так что его в любой момент могли обвинить в сбыте или спекуляции. Это давало почву для подозрений. Люди шушукались, а наибольшим скептиком была, как всегда, Хава Марголис, хоть во рту у нее и стоял мост работы Танкилевича.
Но Котлер не видел причин ему не доверять и считал его своим другом. Котлер тяжело переносил разлуку с Мирьям, и Танкилевич его утешал. Иногда они вместе слушали классическую музыку — Скрябина, Прокофьева, Шостаковича. Вместе читали еврейские материалы и пробовали говорить друг с другом на иврите, хотя владели им еще весьма слабо. Все шло своим чередом, пока тем вечером Танкилевич не побежал в «Известия» с доносом.
А что вообще было тем вечером? Котлер сидел дома у Танкилевича и составлял для западных изданий сводку о том, что происходит за стенами психиатрических больниц. У него имелись подлинные письменные свидетельства одного диссидента, который только что вышел из такой больницы, и, что примечательно, медсестры из психиатрического отделения, потрясенной тем, как нормальных, здоровых людей объявляют умалишенными, упекают в психушки и колют лекарствами, пока они и впрямь не сходят с ума. Котлер раскладывал свой текст на столе в гостиной, когда вернулся Танкилевич. Они обменялись обычным приветствием. Шалом. Шалом. Всё как всегда. Танкилевич спросил, что он делает. Котлер объяснил. Танкилевич внимательно слушал, а