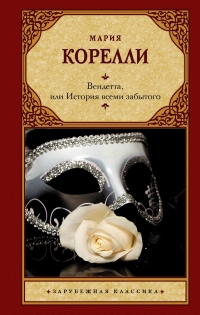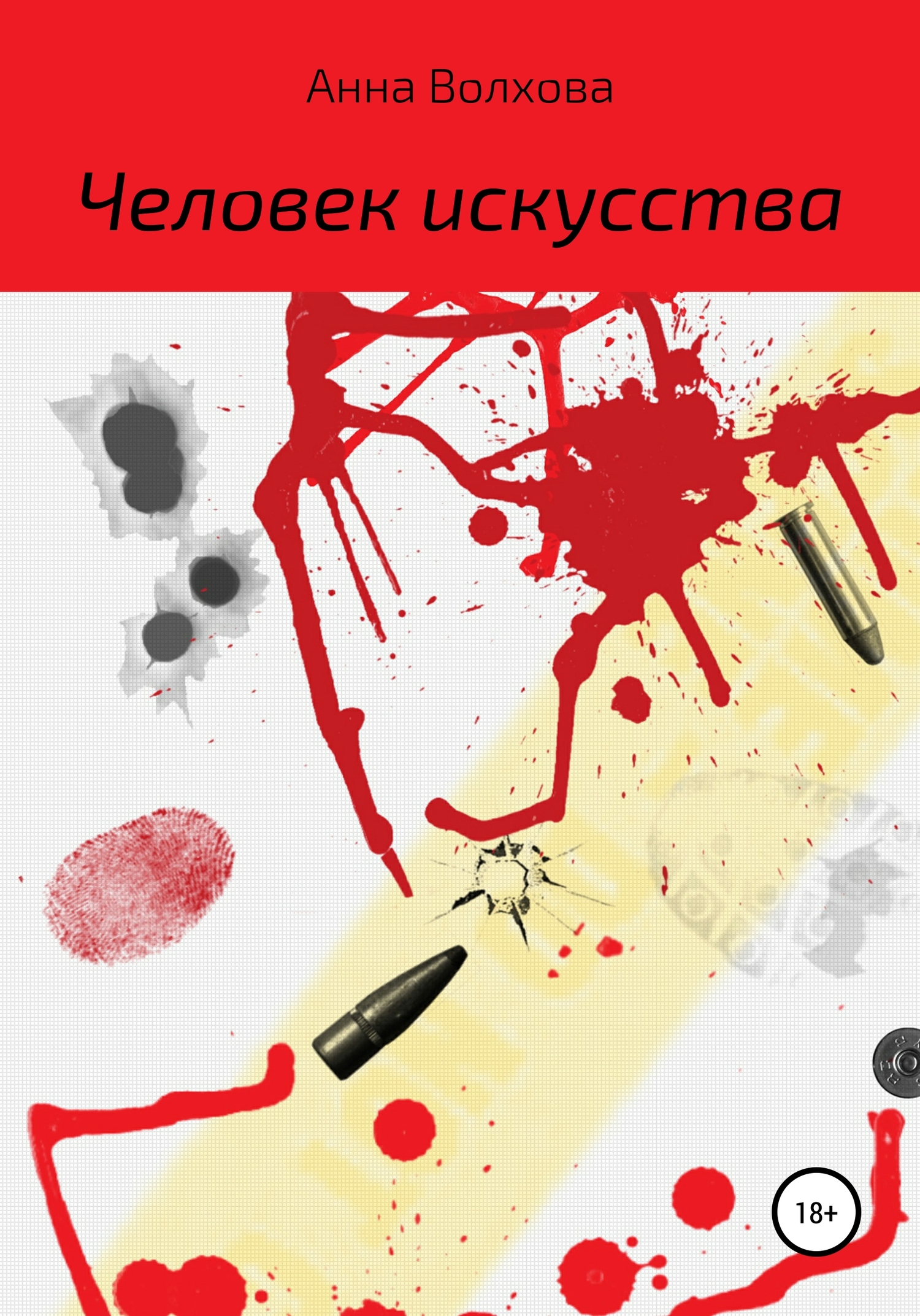его потерей оказалась я, то есть его дочь.
– Во как Антонина Плутарховна старается оттуда. Батяню тебе подогнала, – сказал Димон, когда мы вышли из дома отца (я их познакомила). – Интересный он человек. Порода!
По линии матери правнук штабс-капитана, смуглый, с темными веками и несколько бунинским профилем, попивавший коньяк только из одной и той же старинной рюмки на серебряной ножке, в первый же вечер обыгравший Димона в шахматы, как я обыграла старика Сапожникова, отец произвел на моего будущего мужа сильное впечатление. И я видела: вызвал у него зависть. Может, потому, что бунинские «Темные аллеи» были у Димона долгие годы вместо Библии? Именно тогда я и поняла: все, что вызывало у Димона зависть, он должен сделать своим – возможно, так проявляла себя его генетика: все-таки захват чужого, видимо, был у него в крови. Но и материальные стимулы для Димона были не менее существенны: квартира отца не просто не уступала его родительской, она была значительно лучше.
Ирэна, когда социализм рухнул, показала мне фото деда-купца, чтобы доказать: правнук похож на прадеда. Да, похож, согласилась я. И так же любит деньги, вдруг сказала Ирэна, глянув на меня со значением. А ты к деньгам равнодушна. Интонация ее была смутной – то ли вопрос, то ли утверждение. Дима мне сказал, что твой папа подарил вам квартиру.
Ирэна из-за болезни ног уже не могла выходить из дома. Готовить ей стало тоже тяжело. Охваченная чувством своей ненужности, Ирэна медленно исчезала: ее тень становилась все прозрачнее.
– Давай съездим на дачу, – попросила я Димона, – привезем Ирэне облепихи.
– Съездим. Как-нибудь.
Но это «как-нибудь» не настало.
Ирэна, которая уже не могла готовить, Ирэна, получавшая от новой власти крошечную пенсию, Ирэна, которой требовались дорогие лекарства, была Димону уже не нужна.
В доме и так пахло сытной едой: готовила крутобедрая домработница. И рядом была я – в навязанной мне Димоном роли Ирэны…
Мы смотрели с ней фотографии, она тихо комментировала. Старик Сапожников хмуро смотрел на нее и на меня из-за стекла книжного шкафа, и я подумала, что казачьи корни в нем совершенно не ощущались: он не был наделен ни смелостью, ни азартом, ни стремлением к преодолению дальних расстояний – всем, что имелось у Димона и делало его таким привлекательным для женщин, – за поблескивающим стеклом затаился тихий мрачноватый фантаст, унаследовавший все свои черты, видимо, от какой-то другой ветви…
– А это дедушка и бабушка, бийские.
Поразительно: на желтой фотографии сидели рядом старый Димон и старая Галка…
О квартире сказал Ирэне Димон. Отец мой, охваченный чувством вины перед оставленной когда-то дочерью, продав свою отличную трешку, отдал семьдесят процентов суммы мне, себе купив однокомнатную квартиру и сделав меня владелицей собственной двухкомнатной квартиры в самом центре.
Та крошечная квартиренка в полубарачном доме, в которой обитали долгие годы мы с бабушкой, была продана, и деньги ушли на доплату за район и метры. Вскоре Димон мне сделал предложение. Выгнанный очередной неофициальной женой, каждая из которых имела для него свою утилитарную ценность, однако, окрашенную светом обязательного, романтизирующего ее Димонова представления, он оказался на тот момент фактически без своего жилья, ведь в его родительской квартире еще жила мать.
– Дима не любит меня, только требует и кричит, – закрывая альбом с фотографиями, сказала Ирэна, вздохнув. – Все мужчины у нас в роду такие. Он обижает меня. У меня ведь нет денег, крошечная пенсия, а ему даже не хочется купить мне новый диван, дыру вот старым пальто закрываю. Наверное, думает, чего деньги тратить, скоро ведь помрет, тогда он выбросит диван, и все…
Но Димон не мог и не хотел видеть себя таким – прагматичным и безжалостным. Ему нужен был самовозвышающий обман, какая-то идея о собственной личности, которая могла бы затмить утилитарные мотивы, а затмив, заменить их мотивом благородным. Такой идеей стала идея спасения. И он стал спасать Ирэну от кухни: она до сих пор пыталась иногда приготовить ему еду и потому чувствовала себя хоть немного, но еще нужной. Но Димон, объявив, что матери уже приготовление еды не под силу – то вот соль забудет положить, то суп переварит (все это было неправдой), – взял в дом громкоголосую домработницу, которая загнала Ирэну сначала в комнату, не давая даже подступать к плите (чайник и то она теперь ставила кипятить только сама), – и, соответственно, в гроб с удвоенной скоростью.
По квартире пронеслись быстрые тени: за окном мела метель.
– Я не хотела иметь сына, хотела дочь…
После ее похорон Димон мне сказал:
– Знаешь, даже самому стало стыдно – так я собой восхищался, когда произносил поминальную речь… Было много людей. Председатель Союза писателей, главный редактор «Новостей», старик Рабинович… Помнят батю.
Эти редкие проблески абсолютной честности в Димоне я очень любила: как драгоценные крупицы среди пустой породы, они смиряли с тяжелыми горными перевалами его характера.
Новый диван Ирэне, по моей усиленной просьбе, Димон все-таки успел купить. Пожалел ли он после смерти Ирэны затраченных на него денег? На эту тему мы с ним никогда больше не говорили.
На удобном новом диване теперь спала домработница. Она приехала из Молдавии. Своего жилья в России у нее пока не было.
Ирэна деликатно уступила ей свое место.
* * *
Но ведь имелись свои призрачные проекции и у меня.
Очень старый фильм «Город мастеров» с Марианной Вертинской в главной роли мы посмотрели с маленькой Аришкой на видео. И два мужских образа оттуда – романтичного горбуна дворника, которого потом распрямляет его любовь, и второго горбуна, злого герцога, а его ждет смерть, – точно связались у меня с Димоном, ведь я действительно как бы распрямила его. И таким он был всю первую половину нашего брака, до приобретения второй квартиры (которая в перспективе предназначалась дочке), до окончания строительства в деревне (там построили еще и гостевой дом на десять комнат, чтобы сдавать внаем) и до шуршания на его банковской карте настоящих денег, – благородным и добрым.
Когда он купил себе новый черный «кадиллак», что-то в моей душе тревожно дрогнуло. А стоило мне прочитать его сообщение из деревни, в котором он с гордостью упомянул гибэдэдэшников, которые с почтением теперь пропускают его, даже если он нарушает правила, – в моем сознании прозвучало: «Дорогу герцогу де Маликорну!»
Но все ж таки, в отличие от Димона, я понимала и вычленяла образы, во власть которых попадали мои чувства. От некоторых я легко освобождалась, другие строили мне ловушки, но, даже очутившись ногой в капкане, я могла точно сказать – почему и как такое могло произойти. Он же попадал в ловушки как человек с завязанными глазами.
Думаю, что мой более продвинутый уровень в понимании собственного подсознания являлся следствием не моих личных интеллектуально-интуитивных заслуг: просто предки Димона бийские казаки – открывали новые земли, захватывали, охраняли, воевали, крестьянствовали, а купец – приобретал и торговал, мои же предки в то же самое время учились – кто горному делу, кто инженерному, кто истории и филологии, кто математике. По одной линии тоже имелся небедный купец с двумя маленькими фабриками, но он не был ни благородным меценатом, финансирующим искусство или науку, ни просто хорошим человеком – он проклял свою дочь, мою прапрабабушку, за неравный брак: она против воли родителей