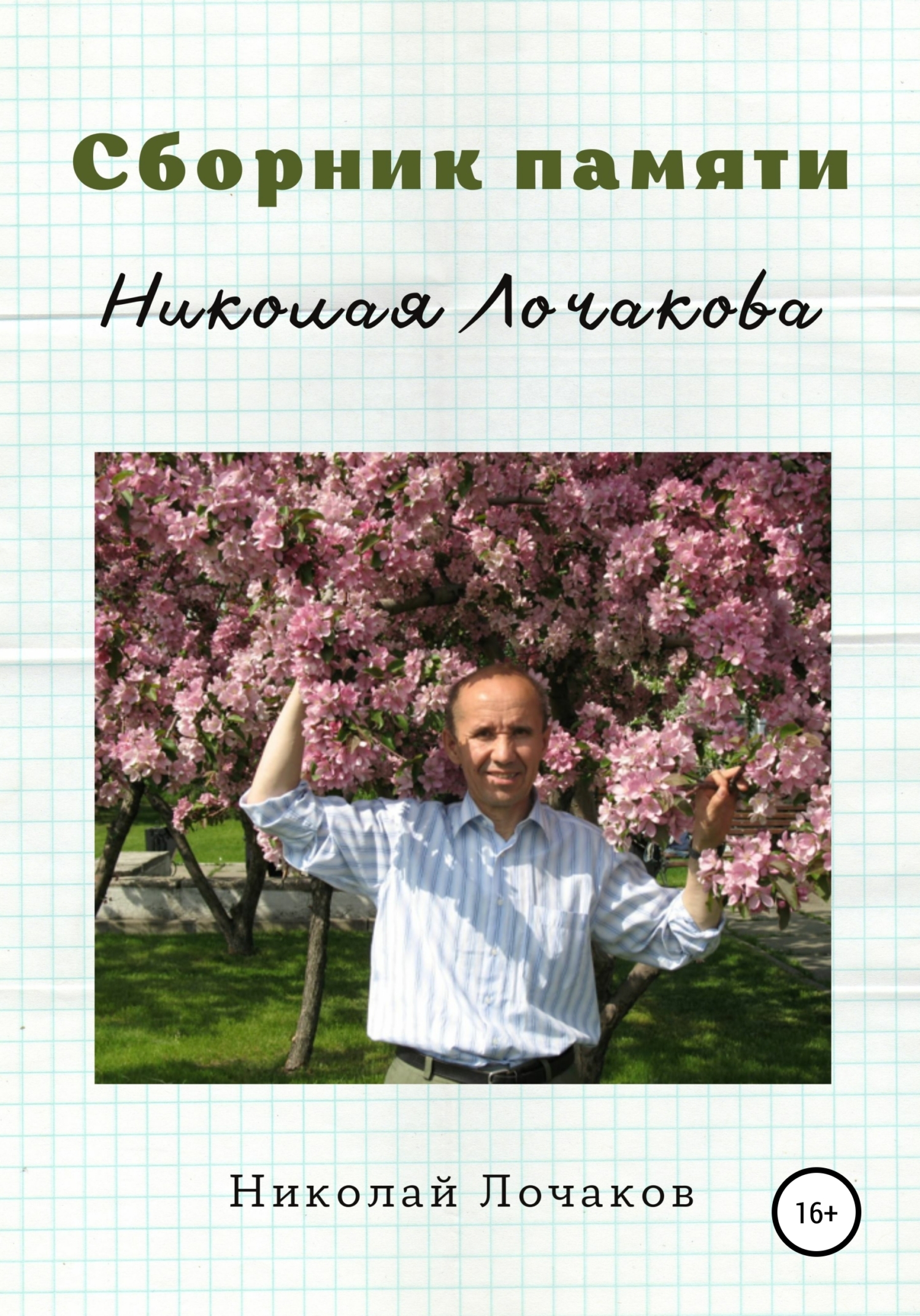может быть, аэродром не по всем правилам, без контрольной вышки, локаторов, может быть, даже без посадочного знака Т, нарисованного известью, но, во всяком случае, площадка, способная принять летательный аппарат. Он лично не имел представления, где искать этот аэродром, знал лишь, что какое-то время назад (это звучало расплывчато — то ли год, то ли двадцать лет) некий Шербан Пангратти, длиннокудрый красавчик, по виду настоящий принц, отпрыск старинного негоциантского рода — выходцев с Лемноса, разбогатевших на карамели и уже в третьем колене влиятельных валахских бояр, — каждую осень прилетал сюда, во Владию, и, не попадаясь никому на глаза, сразу скрывался за оградой виллы, заросшей плющом и виноградом, — какое варварство смешивать эти культуры! Владийцы узнавали о его прилете и отлете только по легкому жужжанию, напоминающему скорее звуки вертушки для отпугивания ворон, чем проявление диковинной современной затеи — самолета. И Копачиу вспоминал, с тем же настроением, как перед началом кино, когда постепенно, незаметно тушат свет, дымчатой, тревожной завесой туманящий экран, — с тем же легким беспокойством, охватывающим его всякий раз, когда он смотрел на засиженный мухами, в пятнах сырости кусок холста, натянутый в классной комнате, в ожидании старого, попавшего сюда чудом фильма, одного из шести-семи, которые крутили бесконечно, путая ролики, причем никто не протестовал, — с тем же беспокойством он вспоминал, как спросил инженера: «А я-то тут при чем?» Спросил не без агрессивности, ему не понравилось, что его раскололи, что инженер видит его насквозь, уж не следил ли он за ним, за Копачиу, когда тот по утрам погружался в полудикие кущи садов, в расщелины между холмами, где земля даже в полдень сочилась сыростью из-под палых листьев, где ящерицы проносились, не касаясь поваленных стволов акаций, заплесневелых, с приторным душком, еще приторней, чем многолетний настил виноградной листвы, чем все ароматы собачьих и кошачьих стай и кротов, роющих ходы в корнях виноградных лоз. А может, он выслеживал его по вечерам, когда Копачиу возвращался в свою пустую комнату, пропахшую оружейной смазкой, ваксой для ботинок и старыми газетами? «А я-то тут при чем?» — спросил он, и инженер ответил не моргнув глазом: «При том, что тут для очень многих аэродром существует. Значит, и для нас с вами он должен существовать».
Копачиу вскинулся: в каком это смысле — для нас? Но промолчал, и даже сейчас не мог бы сказать, что его удержало тогда от вопроса, почему инженер объединяется с ним в понятие «мы», уж не считает ли он, что некоторые вещи ему, Копачиу, не по плечу и сам, без инженера, он не справится? Тогда он проглотил вопрос, а потом вернуться к нему было все труднее. Проискав аэродром целый месяц, без выходных, он пошел домой к инженеру и с порога спросил, принимает ли тот всерьез эти непроверенные слухи, верит ли в них.
Инженер в неком замешательстве посмотрел на него, извинился за свой вид — он был в шортах-хаки, в дырявой футболке, — вышел и вернулся через несколько минут в своем обычном полосатом костюме, но в красно-зеленой ковбойке, намекающей на торжественность момента, и сказал непринужденно: «Пошли!»
Копачиу понял, что идти надо на Катеринину виллу, и внутренне это одобрил, в самом деле, пора было установить истину, и кому, как не им в первую очередь, пора определить долю правды и долю выдумки в этой истории. Он был взволнован — первый обыск все-таки, до тех пор он никогда не посягал на неприкосновенность чужих жилищ, тем более таких внушительных, он всегда чувствовал своего рода уважение, проходя мимо, то ли из-за гордого одиночества виллы, то ли из-за имени — оно стояло на фронтоне, как вызов им всем.
По дороге инженер не просто разговорился — он тараторил без умолку, словно пытаясь убедить в чем-то Копачиу, тот чувствовал, что инженеру дьявольски хочется попасть туда и что эта трескотня неспроста, но особенно над тем не задумался, ему ведь тоже изрядно хотелось проникнуть внутрь, посмотреть, какая она вживе, эта К. Ф., как должна выглядеть женщина, о которой ходит столько разговоров по городу, а ей хоть бы что. Разговоры ходили разные: про налеты ночных бабочек, бьющихся вечерами в окна, про нашествие левкоев и душистого табака, вздумавших потеснить виноград, про их молчаливую войну, когда цветы переходили утоптанную мостовую и распускались в чьем-нибудь дворе, за один день заполняя собой все пространство, тесня, глуша и забивая других.
Копачиу набирался этих сведений в своих походах по бесконечным садам и огородам, он не мог бы сказать, от кого именно, но к концу дня оказывалось, что он знает очередную подробность о таинственном Шербане Пангратти и о вилле «Катерина».
«Я лично считаю, что вилла «Катерина» и ее хозяйка представляют собой проблему. — Инженер нажал на слово «проблема», сообщив ему какой-то сложный подтекст, какую-то глубокомысленность, встревожившую Копачиу. — Конечно, мы без проблем не живем, но эта — статья особая, она у нас вот где, нельзя же до бесконечности терпеть подобное положение».
Копачиу поинтересовался, что за положение он имеет в виду, на что инженер продолжил: «Мы должны раз и навсегда навести здесь порядок. А это дворянское гнездо, — он так и сказал, «дворянское гнездо», — стоит нам поперек дороги. Снаружи нам с вами его не одолеть, как ни наваливайся. Я сравнил бы его с утесом, с утесом выше чем надо, в зоне вечных снегов, его обдувает всеми ветрами, и сколько ни сыпь на него снега сверху, его не занесет, а самой своей твердой фактурой, самим своим цветом он принижает отдохновенные пространства снегов, более того, он подрывает их основы, он портит всю зону. Потому-то нам и надо проникнуть внутрь этого фантома, в его стены».
Они остановились в двух шагах от ворот, и Копачиу вдруг сообразил, что у них нет законного основания для обыска. Он сказал инженеру, что и ему тоже, разумеется, хотелось бы оказаться внутри, познакомиться с К. Ф., правда, в нескольких словах трудно объяснить зачем, но у него нет никакого законного прикрытия, и если смотреть с точки зрения поддержания порядка, то какое же здесь поддержание, когда явное нарушение.
Инженер резко обернулся к нему, посмотрел долгим взглядом, словно не веря глазам своим, и наконец сказал тоном, не допускающим возражений: «Значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам втолковывал всю дорогу и о чем я с вами вообще всегда столько говорю». И, не дожидаясь ответа, инженер Башалига вошел в сад, уже тогда заброшенный, где одичавшие розы сошлись над узкой бетонной дорожкой, где плющ и виноград сплелись без всякой пользы, куда,