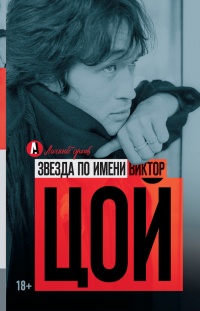шла служба по случаю завтрашнего праздника. Народу было пропасть; служил здешний батюшка торжественно, и пение было такое умилительное, что на всех глазах были слёзы. Среди маленького хора, певшего на клиросе под управлением приезжего из Чернигова семинариста, знатока этого дела, выдавался особенною прелестью молодой, звучный и нежный голос сына Демьяновны.
— Чисто ангельский голос у этого хлопца Розума, — заметил вполголоса человек в длинной белой свитке, подпоясанный алым кушаком и с разукрашенной павлиньими перьями высокой чёрной войлочной шляпой в руке, обращаясь к стоявшему рядом с ним Ермилычу. — Поверите ли, нарочно каждый праздник мы в Чемеры к божественной службе ездим, чтоб его слушать. От нашего приходского попа уж не раз выговоры за это получали: обижается, что прихожане в Чемеры ходят из-за этого мальца и что храм наш пустует, и подлинно, не надо было бы так поступать, да ничего не поделаешь с бабами — хлебом их не корми, дай только Алексея Розума послушать, — продолжал он распространяться, заметив, что слушают его с удовольствием. — Слышал я, что про него уж слух до киевского митрополита дошёл и что приказал он узнать, нельзя ли его к нему, в крестовую церковь, отсюда перевести, — прибавил он, таинственно понижая голос, чтоб не быть услышанным навострившими уши соседками.
Всенощная кончилась, и Ермилыч вышел на паперть, чтоб тут дождаться Алексея, который, задержанный священником для чего-то в алтаре, вышел одним из последних, задумчиво понурив голову и так мало обращая внимания на окружающих, что Ермилыч должен был его окликнуть, чтоб заставить остановиться и кинуться к нему с тревожным вопросом: .
— Дяденька Фёдор Ермилыч! Какими судьбами вы к нам пожаловали? Всё ли у нас благополучно? Я сегодня ночью матушку во сне видел, и так нехорошо...
— Всё у вас ладно, и матушка твоя приказала тебе кланяться и по ней не скучать, а делом заниматься. Пойдём-ка к тебе, мне с тобою надо потолковать, — сказал Бутягин, направляясь к маленькой беленькой дьячковской хатке, в которой за перегородкой, в сенцах, жил ученик хозяина.
— Жарко там, Ермилыч, пойдём лучше в огород, липы там цветут так духовито да ладно, что и не уходил бы оттуда.
— Куда хочешь, мне всё равно. Зашёл я в Чемеры, чтоб проститься с тобою, Алёша.
И, сидя на скамейке под душистой липой в цвету, в тихом уголке, обсаженном деревьями и цветами, он рассказал ему то, что в этом крае знали ещё только в Лемешах: о смерти императрицы, о воцарении внука великого Петра и о надеждах, воскресших во всех русских сердцах по всей России благодаря этой перемене.
Юноша слушал его молча и с глубоким, восторженным вниманием. Он был так красив, что даже в стране красивого, статного народа, где чернооких, чернокудрых, с алыми, как кровь, губами, можно так же часто встречать, как и красавиц девчат, производил впечатление и заставлял собою любоваться. Особенно прелестны были у него глаза, чёрные, как бархат, с выражением такой ласковой, сердечной чистоты, что увидать его и не пожелать с ним заговорить, чтоб услышать его звучный, проникающий в самую душу голос, было невозможно.
«Ладный хлопчик, ладный хлопчик», — невольно повторял про себя Ермилыч, отвечая на наивные вопросы, которыми его закидал Розум, выслушав сообщённые новости.
— А дочка-то царя Петра? Почему её на царство не посадили? Про неё в завещании отца сказано. Здесь проезжал полковник из Питера, так рассказывал, что питерский полицмейстер Дивьер хвастался беспременно её на царство венчать после смерти матери, — проговорил он с волнением. — За неё многие были, она, говорят, такая простая да ласковая, так любит русских и терпеть не может немцев.
— Ишь ты, какой дошлый, и про Елисавету знаешь, и про Дивьера, — заметил с улыбкою Ермилыч. — Ну, если ты уж так учен, скажу я тебе и про то, чего не хотел сказывать: пишут мне из Питера, что действительно был заговор посадить Елисавету на престол после смерти матери и что всем этим заправлял Дивьер, но дело это сорвалось, и ещё при жизни императрицы этой затее, глупо затеянной и ещё глупее провалившейся, вышла крышка. Восторжествовала та партия, которая стояла за царевича. Это ничего, Алёша, это даже правильнее, чтоб не дочка царя от иноземной, простого звания жены наследовала царский престол, а внук его, сын пострадавшего за православную веру царевича. И надо нам ему верой и правдой служить. Ведь так, Алёша?
— Так, дяденька, — вымолвил Алёша печально.
Ему было грустно отказаться от мечты видеть на троне чудную красавицу цесаревну, о которой он так любил мечтать в тёплые звёздные ночи, которые ему приходилось часто проводить под открытым небом, когда он пас скот в Лемешах, а также и здесь, когда, уйдя с книгой ещё засветло в лес или в поле, он незаметно заходил так далеко, что ночь заставала его за версту или за две от дома.
Эта очаровательная царь-девица, о которой он слышал рассказы от проезжих и от побывавших в столице земляков, о которой писали сюда те, которым выпало на долю великое счастье жить вблизи от неё, видеть её, слышать её голос и даже разговаривать с нею, она была так проста, что никем не гнушалась, и, как все уверяли, людей низкого звания предпочитала богатым и знатным, — эта очаровательная цесаревна жила в его воображении постоянно. Дня не проходило, чтоб он не вспомнил про неё, при всяком удобном и неудобном случае. Она была та невидимая фея, которая вдохновляла его на всё великое и прекрасное; он воспевал её в гимнах, возносимых Господу Богу в церкви, он посвящал ей латинские стихи, в которых упражнялся весьма успешно, к великой гордости и радости его учителя; она царила так полновластно в его сердце, что в нём не оставалось ни малейшего местечка для чернобровых Оксанок и Марусек, изнывавших по нему. Она спасала его от всего дурного, пошлого, грубого, ему так хотелось быть достойным высокого идеала, который он сам себе создал, что всё существо его бессознательно преображалось, вкусы его становились благороднее и тоньше, его влекло к гармонии во всём, к тому, чего вокруг него не было, но что, он знал, существует там, далеко... так, может быть, далеко, что на земле этого и не найти... Но ведь есть небо, где всё, что у него живёт в сердце в виде призрака, существует на самом деле, и недаром же дано ему в это верить и к этому