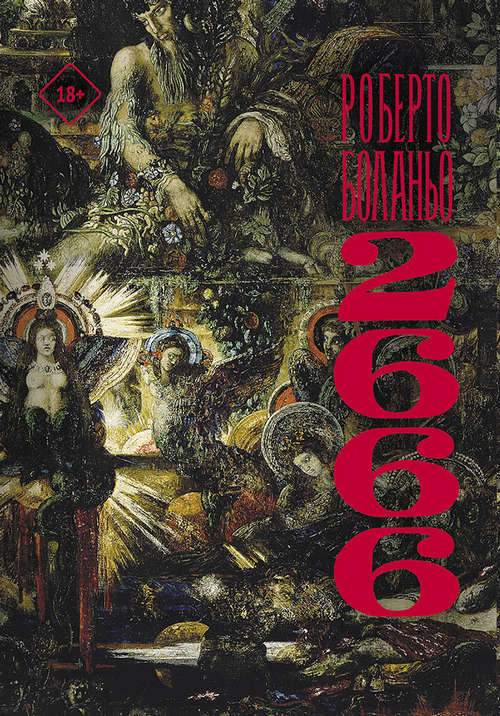и настойчивой. Три буквы… Я не только отличал их от других, но умел написать, — и Лютфи засияла радостью. А я… я тогда, не в силах сдержаться, сказал ей все. Помните поэта?
Молчание отвергнув, на миг я дерзким стал:
Любимой — будь что будет — я о любви сказал.
Наверно, в то мгновение я был косноязычен, путался в словах, сбивался, повторялся, краснел и бледнел. Пот катил с меня градом и, только умолкнув, решился я взглянуть на Лютфи. Она не убежала, стояла, смутившись, опустив глаза, и длинные ресницы тенью лежали на лице… Я и сейчас не знаю, какая сила подняла меня, как я осмелился привлечь Лютфи к себе и поцеловать в щеку — туда, где чернела родинка.
Она вспыхнула, вырвалась и побежала, я — за ней. Она заперлась в кухне и бранилась оттуда, называя меня бесстыдником, сконфузившим ее, а я стоял под дверью и ликовал.
С улицы донесся голос ее матери; я сказал об этом Лютфи; она, отворив кухню, в смятении схватилась за нож, начала кромсать лук и морковь. Это получилось кстати — мать принесла с собою рис и мясо; смеясь, она сказала, что сегодня придет некая гостья сватать Лютфи. На меня словно ведро холодной воды вылили.
Мать догадалась обо всем с первого взгляда.
— Пусть приходит, — ответила она. — Встретим, как полагается, в гостеприимстве не откажем, а насчет самого главного — ответим, что у девушки уже есть хозяин, — и ласково улыбнулась мне.
Я смущенно опустил голову.
Лютфи на другой день рассказала, что сваха ушла, ничего не добившись. Мать сдержала свое слово. Сколько сваха ни старалась выпытать, что это за «хозяин» объявился у Лютфи, мать не открыла тайны.
Быстро прошел месяц. Лютфи меня любила, а ее мать и брат уважали — я был счастлив. Никогда я не ждал так нетерпеливо отца, как в те дни, но он все не шел и не шел… Наконец Ахрорходжа сказал, что отец погиб, его похоронили и один из товарищей, участвовавших в похоронах, принес мне на память отцовский кошелек. Ахрорходжа достал из кармана кошелек, протянул его…
Я остолбенел, в глазах потемнело. Отец!.. Это был его кошелек, пробитый пулей, пустой… Отец всегда держал его при себе, там он бережно хранил к моей свадьбе золотую десятирублевку…
Теперь у меня осталась одна радость в мире — любовь к Лютфи… Она не была тайной для Ахрорходжи и принесла мне беду.
Как-то мы стояли у дома Лютфи: я — на улице, она — за воротами. Ахрорходжа бесстыдно подкрался сзади и глянул через мое плечо — Лютфи вскрикнула, закрыла лицо руками, убежала.
— А, с девочками забавляешься? Тоже новость, поздравляю!
Потом, уже дома, Ахрорходжа сказал, что он пошутил и обижаться не надо. Это, мол, было проверкой. Он давно догадывался и даже посылал узнавать сваху… Препятствовать он не будет, а что касается Лютфи, то пусть она заходит к нам, как в свой дом, скрывать тут нечего, ведь все равно придет день, когда нас соединит он сам, Ахрорходжа!.. Да, да, он, Ахрорходжа, сыграет мне, даст бог, свадьбу, однако сейчас, в это тяжкое время, я должен беспрекословно повиноваться ему и ничего от него не утаивать.
И опять я поверил ему — поверил и обрадовался, как радуется странник, встретивший в пустыне неожиданного друга!.. Лютфи призывала быть благоразумным, убеждала меня, что у Ахрорходжи грязные цели, он посылал сваху сватать не мне, а себе, — но я не слушал Лютфи. Ахрорходжа усыпил меня, коварно оплел паутиной, точь-в-точь как паук, который готовится высосать из своей жертвы кровь. Всякий раз, когда я заговаривал о Лютфи, он убеждал дождаться осени, потерпеть, «пусть пройдет хотя бы годовщина смерти отца, устроим ритуальное поминание, тогда и сыграем свадьбу»…
Я соглашался с ним. За это время Лютфи успела освоить грамоту, она читала толстые книги и умела считать. Занятий мы не бросали, занимались вместе, так что я тоже научился отличать буквы и складывать их в слова.
Никогда не забуду того дня, когда Лютфи сказала, что она стала комсомолкой. Что-то новое, еще неуловимое появилось в ее взгляде и в звучании голоса.
— Если хотите, комсомольцы помогут нам, мы сможем пожениться, — смело сказала она.
Но я, потерявший дорогу, опутанный ложью Ахрорходжи, не верил комсомольцам и заявил в ответ, что свадьба будет по нашим обычаям.
— Нам сыграет свадьбу Ахрорходжа, — сказал я.
Это была наша последняя встреча: через два дня Ахрорходжа привел меня в зиндан шейха Ходжаубани.
…Что мне было делать теперь? К кому взывать? Где искать выход? Если бы Лютфи узнала о моем несчастье!.. Неужели Ахрорходжа поймает в свои сети и ее?..
Я не находил себе места от горя, мысли давили, одна горше другой, и от них, казалось, лопнет моя голова.
«Ахрорходжа, думал я, теперь подстерегает Лютфи. А вдруг она попадется ему в лапы?! Нет, нет, она комсомолка, она свободная девушка, гордая, независимая, ей помогут!.. И все-таки… Да, надо бежать отсюда, сегодня же бежать, во что бы то ни стало!.. Но как?»
— Не ломай себе голову, сынок, — сказал ака Мирзо. — Спи, придет день — поговорим… Утро, говорят, мудренее вечера.
— Где выход? Выход где? — в отчаянии воскликнул я.
— Бог — наш падишах, все в руках властелина! — ответил ака Мирзо.
Снова тишина, на этот раз — ни звука.
* * *
Занималась заря.
Легкий, утренний свет медленно разгонял тьму нашего зиндана. Я так и не сомкнул век; лишь на мгновенье забылся, но, услышав густой и мягкий, трогающий сердце бас ака Мирзо, тут же пришел в себя. Он, по обыкновению, встречал рассвет стихами:
Вчера меня с зарей оставили все муки,
И влагой животворной поили чьи-то руки.
Терпение и твердость я сохранил вполне,
И память прошлых дней вернула счастье мне.
— …Если бы и нам это утро принесло избавленье от мук, если бы и нам, как Хафизу, счастье увидеть, ведь и мы стойко держим себя в беде! Разве не так, Гиясэддин?
— Так! — ответил Гиясэддин.
— Я хочу вам сказать кое-что, — сказал ака Мирзо и понизил голос. — Идите сюда.
Мы подползли к нему.
— Сегодня ночью я заново продумал всю свою жизнь. Нельзя опускать руки, нельзя! — возбужденно зашептал он. — Не на время у нас установилась Советская власть — навсегда утвердилась! Крепнет она, ей уже никто и ничто не помешает, основа у нее прочна — народная основа… Я