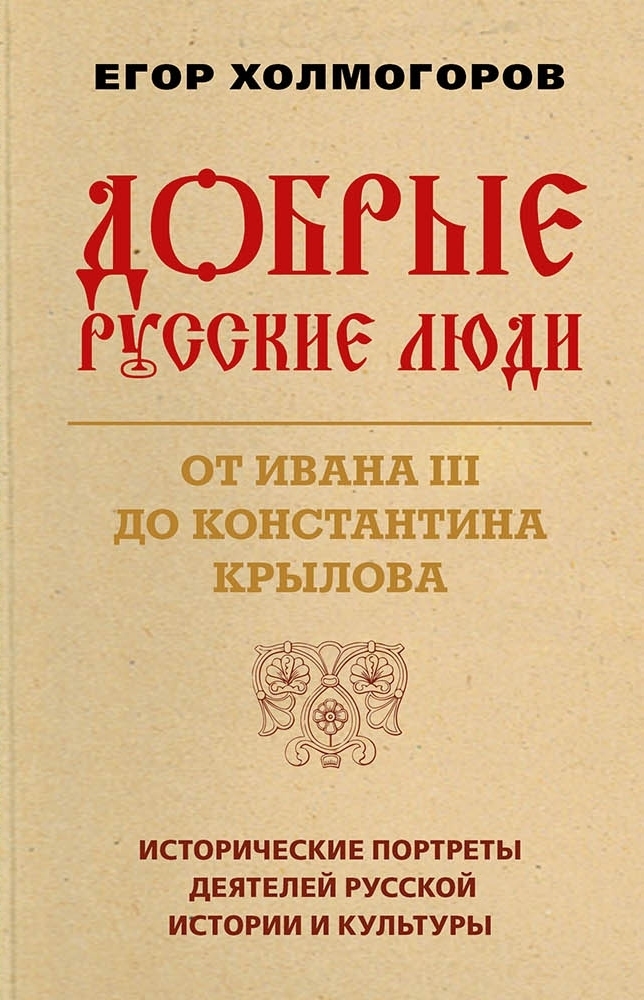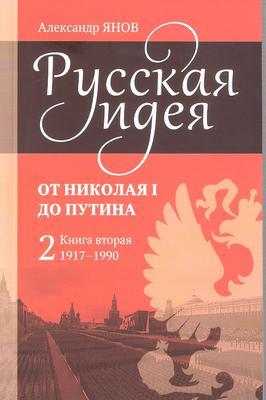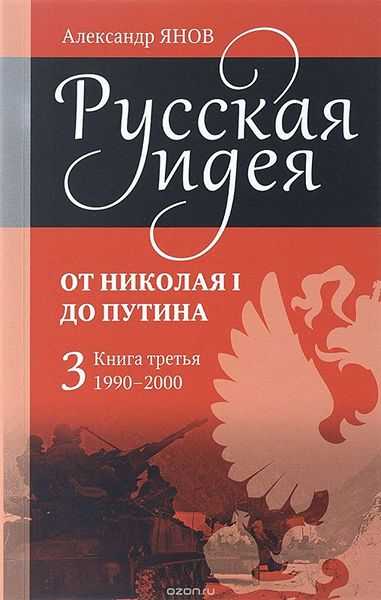политической традиции несомненен и мимо его внимания не прошли гремевшие на всю Европу «Размышления о революции во Франции», где сказано следующее:
«Люди не станут думать о своем потомстве, если оно, в свою очередь, не будет оглядываться на предков… Идея наследия питает собой надежный принцип передачи, отнюдь не исключая принципа совершенствования. Идея эта оставляет простор для приобретения нового, но она обеспечивает сохранность приобретенного… Политические установления, богатство и дары Провидения все они сходным образом передаются нам, а затем от нас далее…»[46].
Однако идею наследия как ограничения произвола мы у Бёрка не находим. Она, по всей видимости, составляет совершенно оригинальный вклад Карамзина в сокровищницу консервативной мысли.
Равно как совершенно оригинальна идея Карамзина о самодержавии ограниченном самодержавием, проходящая сквозь записку «О древней и новой России» мысль о том, что самодержец не может отказаться от самодержавия, что ограничение самодержавной власти значило бы самовольное преступление положенных ей пределов.
Русский самодержец вместе с мономаховым венцом принимает на себя многотрудный аскетический подвиг продолжения русской истории, сообразования себя с нею. Он не может предаваться легкомысленным фантазиям и мечтам, не может демонстрировать самовластия в эгоистическом легкомыслии.
Карамзин рисует такой образ легкомысленного самодержавия, разрушающего государство, в лице Лжедмитрия, в котором трудно не узнать злую пародию на «дней Александровых прекрасное начало». Потеря властью уважения порождает нечто горшее чем тирания – мятеж (тут вспомним, что царствование Александрово породило в итоге именно мятеж и подивимся прозорливости Карамзина).
«Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до пристрастия, и, не зная Истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, Короля Французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ: малочисленная Дума Боярская, служив прежде единственно Царским Советом, обратилась в шумный сонм ста правителей мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Димитрий вверил внутренние дела Государственные, оставляя для себя внешнюю политику; иногда являлся там и спорил с Боярами к общему удивлению, ибо Россияне дотоле не знали, как подданный мог торжественно противоречить Монарху. Веселая обходительность его вообще преступила границы благоразумия и той величественной скромности, которая для Самодержавцев гораздо нужнее, нежели для монахов Картезианских… Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами Святыню своих предков, возложили руку на Самозванца.
Сие происшествие имело ужасные следствия для России; могло бы иметь еще и гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для Гражданских Обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений Государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного изступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!»[47].
Однако страх мятежа, несогласия, народного протеста, неприятия народной совести является для Карамзина не столько предметом ужаса, как для реакционеров, сколько исполнительным органом на суде истории над недостойными государями.
Даже великий государь, как Петр I, когда насилует народную совесть и искажает народный облик и душу, отрекается от преемственного хода русской истории, чтобы её «раскрасить», в уплату за это опасно сближается с тираном.
«Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная Канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования Государственного. Многие гибли за одну честь Русских кафтанов и бороды, ибо не хотели оставить их и дерзали порицать Монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество»[48].
Просветительство и свободомыслие в сочетании с разрывом исторической традиции порождают лишь деспотизм и пытки ради насаждения западного обычая и непрошенной «свободы». Здесь снова предупреждение Александру с его реформаторскими порывами.
Утрата доверенности народа – высший суд и приговор за нарушение исторической конституции России. Карамзин не одобряет мятежей и переворотов, но грозится царям народным мнением и народным молчанием, как в «Мнении русского гражданина», предрекая Александру в случае восстановления Польши разрыв живой связи с гражданами.
«Я слышу Русских, и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю: остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением Государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не опустел бы конечно дворец; Вы и тогда имели бы Министров, Генералов: но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы… А Вы, Государь, гнушаетесь рабством, и хотите дать нам свободу!»[49].
Гражданин, живой и деятельный участник русской истории, уступит место молчаливому верноподданному, рабу, механически или из личной выгоды исполняющему любую волю исходящую от престола – такая гражданская казнь, ужасающая из возможных, ждет, на взгляд Карамзина, монарха, преступившего закон русской истории.
Не удивительно, что «Записка» Карамзина произвела сильное впечатление на Александра I и содействовала эволюции его политической линии[50]. В лице историографа император столкнулся не с ретроградом, не с придворным интриганом, не с выразителем мнений публики, а с убежденным в своей миссии пророком, вещающим от имени самой Русской Истории по праву самого глубокого его знатока. Эта опора на историю давала Карамзину силу не только противоречить, но и грозить царю, не превращаясь при этом в революционера. То право увещевания, которого Петр лишил церковных первосвятителей, Карамзин ощутил в себе как плод аскетического подвига постижения русской истории. Его устами Россия древняя говорила с Россией новой, предписывая ей свои законы.
VII.
Практические занятия Карамзина как историографа произвели в нем радикальную перемену понимания самого предмета истории. Молодой литератор понимал «сочинение» истории как раскрашивание ярких картин прошлого, позволяющее сокращать скучные события и сведения. Зрелый историограф прошел школу исторической аскезы, усвоил принцип смирения перед историческим фактом, перед идеей подлинного, действительно бывшего. История теперь видится ему не как плод конструирующего художественного вдохновения, а как сбывшаяся реальность.
На принципе исторической аскезы Карамзин базирует и свои политические суждения в записках, обращенных к императору. «Старому народу не нужно новых законов», тысячелетняя история России накладывает на власть определенные обязательства и сковывает вольность «художественного вдохновения» в политике и красочных реформах.
Карамзин убежден: русская история является единственной истинной Российской конституцией. Именно в ней заложены те механизмы ограничения самовластия, противодействия тирании, защиты свободы, которые тщетно надеяться найти