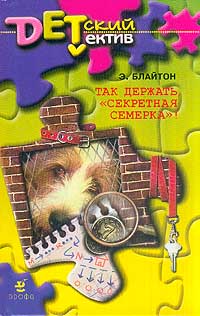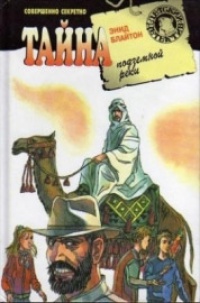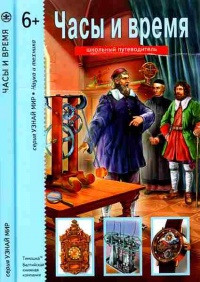В округе пять продуктовых магазинов, там — хлеб, соль, водка, морская капуста в жестяных банках, а также напиток «Курземе» в жёсткой картонной упаковке и коньяк «Тиса». Остальное — кончилось.
Обманчиво тепло и сыро по-настоящему. Сугробы проседают и преют. Еле видимые среди луж ручейки как один стремятся к Валам, чтобы во мрачном нутре туннелей ещё австрийской кладки разыскать ослепшую, пленённую Олтву, влиться в её холодное и бурлящее, чёрное тело. Тёмные дни торжествуют, а над трубами города вьётся дым и вяло ссорятся вороны. И нету для них ни дней, ни часов, ни столетий — вороны и трубы ровно те же, что и во всех прошедших временах, и в каждой отдельной зиме «грубые голландки» выкашливают в небеса сажу почти от тех же угольев.
На мгновение всю эту заметь, пелену и хмурь вспарывает солнечный луч — пронзительный и прощальный, полуснежная пыль внутри него вспыхивает на мгновение миллионом искр, нежный отсвет россыпью ложится на бледную стену Главпочты, чиркает вспышками окон на фасаде и гаснет.
Адвент — ожидание. Адвент — размышления. Адвент — три раза недосыта…
Небо нависает непроглядными клочьями. Вороны летят на Каличу гору спать и горланят в тучах. Ветер меняется, приносит холод и превращает дождь в мелкий снег. Трамваи отчаянно звенят на прытко скачущих по лужам пешеходов, следуют прямо, рассекая вереницы теней, запахов и прочих снежных хлопьев.
Главпочта кажется сказочным дворцом, светится лимоном, пахнет сургучом и старым деревом, соревнуясь с ароматами кофе и выпечки из кофейни напротив — в ней я нарушаю предписания. Ем досыта, в чётный раз.
«Это уже пятый, — думаю я. — Пятый пирожок. Дальше будет нечестно».
Ложечка падает у кого-то со стола, звонко.
— Ну, не совсем. Дальше будут четыре ошибки, потом три квартала. Два предмета и один… забыла слово, — говорит, продолжая мою мысль вслух, незнакомая девушка напротив.
Я фыркаю.
— Нечего хрюкать, — отвечает она. — Усы от какао не вытерты, а туда же: рох-рох.
— Сама ты рох-рох, — вступаю в беседу я. — Нет у меня никаких усов, кстати.
— Значит вырастут, — вздыхает в ответ она. — Ничего будет, если я тебя провожу? А то ты заелся… хотела сказать засиделся. Я, кстати, аспирантка.
— Что, из Политехники? — подозрительно спрашиваю я.
— Допустим, что, — кивает она. — Тут недалеко…
Я хмыкаю. Рассматриваю. Обычная девица. В короткой потёртой рыжей дублёнке, бело-сером свитере и чёрных зимних брюках, заправленных прямо в сапоги. Неинтересно.
— Неправильно как-то, — замечаю я. — Тут что-то не так. Неспроста.
— Так ты готов? В смысле, идёшь? — переспрашивает она и встаёт.
— Ноги, — отвечаю я и допиваю какао старательно и длинно.
— Что? — смотрит вниз она.
— Промочил, — также старательно и длинно говорю я.
На всякий случай тщательно вытираю рот, снимаю с крючка под столом сумку с покупками. Она ждёт. Заинтересованно.
— Сам могу дойти, если что… — басовито и грубо бурчу я.
— Возможно, — говорит эта самая аспирантка. — Или не очень. Особенно сейчас, в этом месте… местах…
— Ага, — тяну я. — Особенное место — слышал, знаю. И время непростое, угу. Надоело.
Я смотрю на неё долго и угрюмо, думая, что она смутится. Она же радуется чему-то и цепко хватает меня за подбородок.
— Да, — говорит она, словно утверждаясь в подозрениях. — Да. Это он.
— Конечно, — высвобождаюсь я. — Аспиранец. То есть аспирант, короче — такое же брехло, как ты. Всё, чао — усы от какао… Сгинь.
Она усаживается, достаёт из кармана коробок, вынимает спичку, тычет ею мне почти в глаз и спрашивает.
— Что это?
— Зрения лишают, помогите, — вяло отвечаю я.
Огонёк вспыхивает, будто сам собой зародился в спичке должно быть, она её смазала чем-то…
— Химия, да? — интересуюсь я, рассматривая завитки дыма. — И жизнь…
— Садись. Два, — отвечает она. — Ответ неудовлетворительный совершенно.
— Кому как, — злобно говорю я. — Вопроса вообще не было…. Сейчас, между прочим, каникулы почти что. Может у тебя это, девичье, как его — склероз? Или в школу не ходила?
— Формально ты ученик, — сообщает мне она. — Присядь на минутку.
Я сажусь обратно, она высыпает из коробка остаток спичек. Семь штук. Зажигает их, одну за другой, прямо перед собой, обводит взглядом полутёмную пирожковую.
— И раз, и три, и пять… — бормочет она, — буду полевать[2].
У неё красные пальцы, как будто она долго была на морозе без перчаток. Бледное лицо. Длинные рыжеватые волосы, острый носик, жёлтые, будто старый янтарь, глаза, тонкие брови — ну, девушка с улицы, сотни таких и подобных. Встретишь и не глянешь, наверное.
— Всё-таки, — заявляет она, разглядывая меня сквозь спичечное пламя и дым. — Это самый верный подход. Прятать на поверхности…
— Второй носок… — не могу удержаться я.
— Ты, — ведёт она дальше, — сделаешь несколько не самых страшных ошибок, думаю, четыре.
— Тёмные дни, — ответил я, — и так непросто всё. Время менять форму, слыхала, да? Я уже выбросил кеды, например…
Она отворачивается вслед огоньку от спички.
— Мягкая Лапка! — вопит девушка, разглядывая угол пирожковой сквозь дым и огонь. — Не прячься, милая тварь! Иди сюда, мой таксик!
Из подозрительно потемневшего и растянувшегося угла к нам подгребает недобро выглядящий амбал. Абсолютно засаленный, с ног до головы в какой-то ворсе, и почему-то в капюшоне, хотя никакой куртки на нём нет, только косо пошитый пиджак.
— Ты смотришь сны смертных теперь, да? — нахально спрашивает его девица. — Про кричащую еду?
— Это ты мне? — неожиданно вяло изрекает амбал, нависая над нашим столиком.
— Такие, как Мягкая Лапка, поодиночке не ходят, — деловито произносит она и глядит сквозь огонь. — Ну-ка, ну-ка… Кто у нас тут? Сейчас-сейчас, уже-уже… Ага! Шиге! Вот так встреча! Чтоб ты сдох!
Не совсем понятным образом — из другого угла, но вроде сверху, точь-в-точь паук на клейкой ниточке — является второй тип. Невысокий и белобрысый. Почему-то в старой женской шубе. Очень пахучий.
— Что говорят среди неспящих? — дерзко интересуется «аспирантка».
— Овца растерзала волка в Первоземле… Слышали здесь, как поют скалы, — он быстро облизывает губы и шипит. — Галлоэ! Галлоэ! К добыче зову всю свору…
— Кто вас впустил, вообще? — вскипаю я. — Синяки!
— Его имя означает «тень». Дословно, — информирует девица. — Что нужно сказать теням?