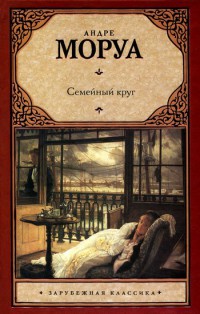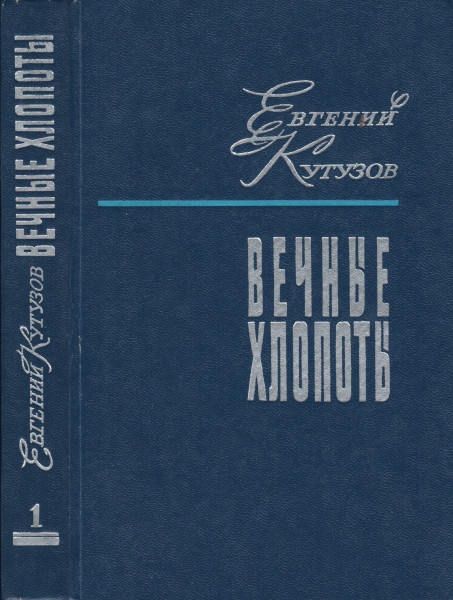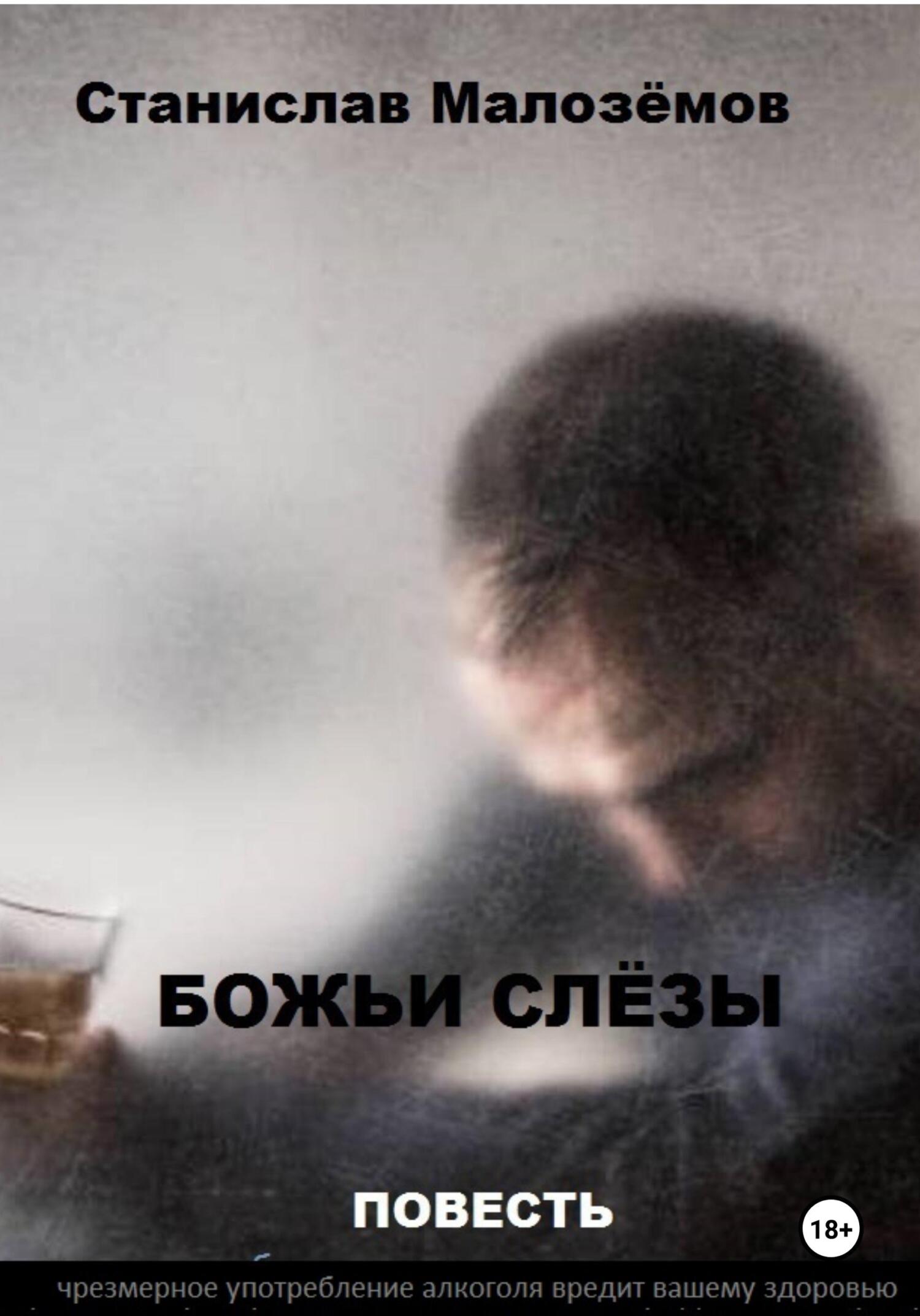заговорил Кудряш вкрадчиво.
Амина нахмурилась.
— Дочери такого богатого человека, — повторил Кудряш, — разве гоже идти замуж за нищего?
Амина не ждала такого открытого разговора, вдруг остановилась, блеснула глазами.
— Пусть бедный, пусть пастух, зато многие даже мизинца его не стоят.
— Ты позоришь наш конец деревни.
— Что же я могу поделать, если на нашем конце все богатые, а хорошего жениха нет.
— Неужели ни одного?
— Ни одного: каждый или дурак, или, как ты… теленок.
— Так… значит, издеваешься?
— Правду сказать, это, по-твоему, издевательство?
Кудряш обозлился.
— Ну, ладно. Плюнул — плевок обратно не подберешь. Но ты еще пожалеешь, что так оказала.
— И не подумаю…
— Амина, ну почему ты…
— Шел бы ты отсюда, Кудряш, — перебила его Амина, — отеи увидит — отведаешь кнута. Он страсть ухажеров не любит.
Кудряш остановился и- долго смотрел вслед удаляющейся девушке.
Амина подошла к своему дому, срубленному из толстых, кряжистых бревен. В темноте весенней ночи поблескивали окна. От высокой изгороди падала тень на тропинку, протоптанную рядом с дорогой вдоль улицы мимо дома и забора.
На высоких тесовых воротах в лунном свете, будто заячьи глаза, блестели прибитые для украшения железки.
Взглянув на блестящие железки на воротах, Амина вспомнила про блестящий наугольник от гармошки Эмана, достала его из-за пазухи, присела на лавочку возле дома. Издали доносилась гармошка, веселая песня.
«Как бы гармонь не разбили, — думает Амина, — наверняка наши сегодня передерутся с луйскими. Надо было мне тоже с ними пойти, я бы гармонь оберегала. Но где же все-таки Эман? Неужели он нарочно пошел на свадьбу один? Неужели у него есть уже там зазноба?
Ах, надо было идти, зря не пошла! И гармошку сломают…»
Песня, удаляясь, доносилась все тише и тише.
Но вдруг Амина вскочила. Она услышала, что гармонь заиграла совсем по-другому: уверенно и легко, и девушка сразу решила, что это заиграл сам Эман.
«Эман с ними? Ушел от меня тайком? — с обидой подумала она. — Ну, ладно, иди, иди! Раз так, то и ты мне не нужен, как этот твой наугольник!»
Амина бросила наугольник и вдавила его ногой в землю.
Ворота были на запоре, она не стала стучаться, перекинула вдруг отяжелевшее свое тело через изгородь.
Вдалеке играла гармонь, пели девушки. Но звуки эти становились все тише и тише, вот они уже еле слышны, затем и вовсе замерли, словно растаяли.
Пусто на деревенской улице. А возле дома Амины на тропинке тускло поблескивает под луной наугольник, оторванный от гармони Эмана.
Матвей Матвеевич Эликов — этнограф, путешествующий по губернии с целью изучения и описания жизни и быта марийцев, выехал из деревни поздним вечером.
Прежде он никогда не пускался в путь на ночь глядя. Зачем ездить по ночам, когда вполне хватает дня? Да и спешить особенно некуда. Правда, к досаде этнографа, образ жизни людей быстро меняется, однако это не причина, чтобы скакать по ночам, как исправник в мобилизацию, подгоняя ямщика тумаками.
Но сегодня так уж сложились обстоятельства, что Эликов изменил своему обыкновению.
Пара лошадей бойко бежит рысью, звонко переговариваются между собой колокольчики.
— Э-эп, э-эп, яныка-ай![1]—погоняет ямщик пристяжную, и голос его звучит ласково, словно он обращается к любимой девушке. Но Эликов — русский, по-марийски не понимает, поэтому ему слышится, что ямщик называет лошадь «лентяйкой».
Рядом с тарантасом, не отставая, бежит черная тень. В ней Эликову видится что-то зловещее, как и в той толпе, что собралась сегодня в деревне, из которой он удирает. Чтобы не вспоминать об этом, он старается не смотреть на тень. Но забыть сегодняшнее происшествие не в его силах.
«Неужто и вправду убили бы?» — думает Эликов.
Неделю назад он приехал в деревню Кома, велел ямщику везти себя прямо на постоялый двор. Ямщик остановился возле избы, к углу которой была приколочена вывеска: «Казенная квартира».
Эликов вошел внутрь. «Казенная квартира» оказалась обыкновенной избой без перегородок, с бегающими по стенам тараканами. Пол-избы занимала печь, посреди стоял грубо сколоченный стол, вместо стульев — скамейки да еще широкие нары у стен. Рамы в окнах одинарные, стекла засижены мухами.
Напротив, через сени, хозяйская половина. Оттуда навстречу приезжему вышла не старая еще, лет под тридцать, баба.
— Ты что ли хозяйка? Где у вас тут останавливаются приезжие? — спросил Эликов по-русски.
Баба заправила волосы под шынашовыч,[2] вытерла нос подолом рубахи, уставилась на Эликова и испуганно проговорила:
— Не знаем, госпоин…
— Ты чего, не понимаешь что ли?
— Не знаем, госпоин, — повторила баба.
— Позови кого-нибудь, — сдерживая раздражение, сказал Эликов, стараясь пояснить свои слова жестами. — Старосту, десятского, черта, дьявола — все равно, лишь бы понимал по-русски! «Не знаем, госпоин», — передразнил Эликов хозяйку.
Баба в сердцах сплюнула и ушла, хлопнув дверью, во двор, где ее муж чинил борону.
— Сам к нему ступай, — ворчливо сказала она. — Говоришь… авось не съест, а такой и съест — не подавится. Обругал меня чертом, дьяволом да еще язык, как дурак, высунул.
— Сама ты дура! Я же тебя учил: спроси, поставить ли, мол, самовар. Скажет «да» — поставь, скажет «нет» — не надо. Э-эх, баба-баба, даже этого не сумела сделать!
— Да он мне слова не дал сказать, залопотал, залопотал чего-то.
— Эх, баба — она баба и есть.
— Заладил одно и то же! Сам-то ты на что годишься, шайтан полудохлый!
Видно, своим упреком она угодила в больное место— муж обложил ее матом и пошел в избу. Хозяйка направилась за ним и, войдя, встала у дверей.
Пока муж разговаривал с приезжим, она разглядывала вещи этнографа, которые внес ямщик: какой-то чудной, обтянутый кожей ящик с ременной петлей, толстую черную палку с блестящими накладками, кожаную туго набитую сумку, из которой торчал угол книги, кожаный сундук с внутренним замком.
«Наверное, подати собирать приехал, — думала хозяйка, — и то: недоимки за нами много, недаром говорили: кто не заплатит, того в чижовку посадят. Наверное, это и есть начальник по недоимкам. А я-то, дура, не сумела ему угодить. Вон как он рассердился! Кабы худа какого не сделал моему мужику. Ишь, схватил свою толстую палку и придавил таракана на стене. Да нешто можно давить тараканов — от них счастье в дому! Вот прошлый год вернулся с японской войны сын Калинки с нижнего конца и принялся заводить в доме новые порядки: в окна вставил вторые рамы, побелил стены известкой, пол заставил вымыть с мылом, морил клопов какой-то отравой, потом взялся за тараканов. Мать, само собой, была против, да что поделаешь! Пришлось ей со снохой и