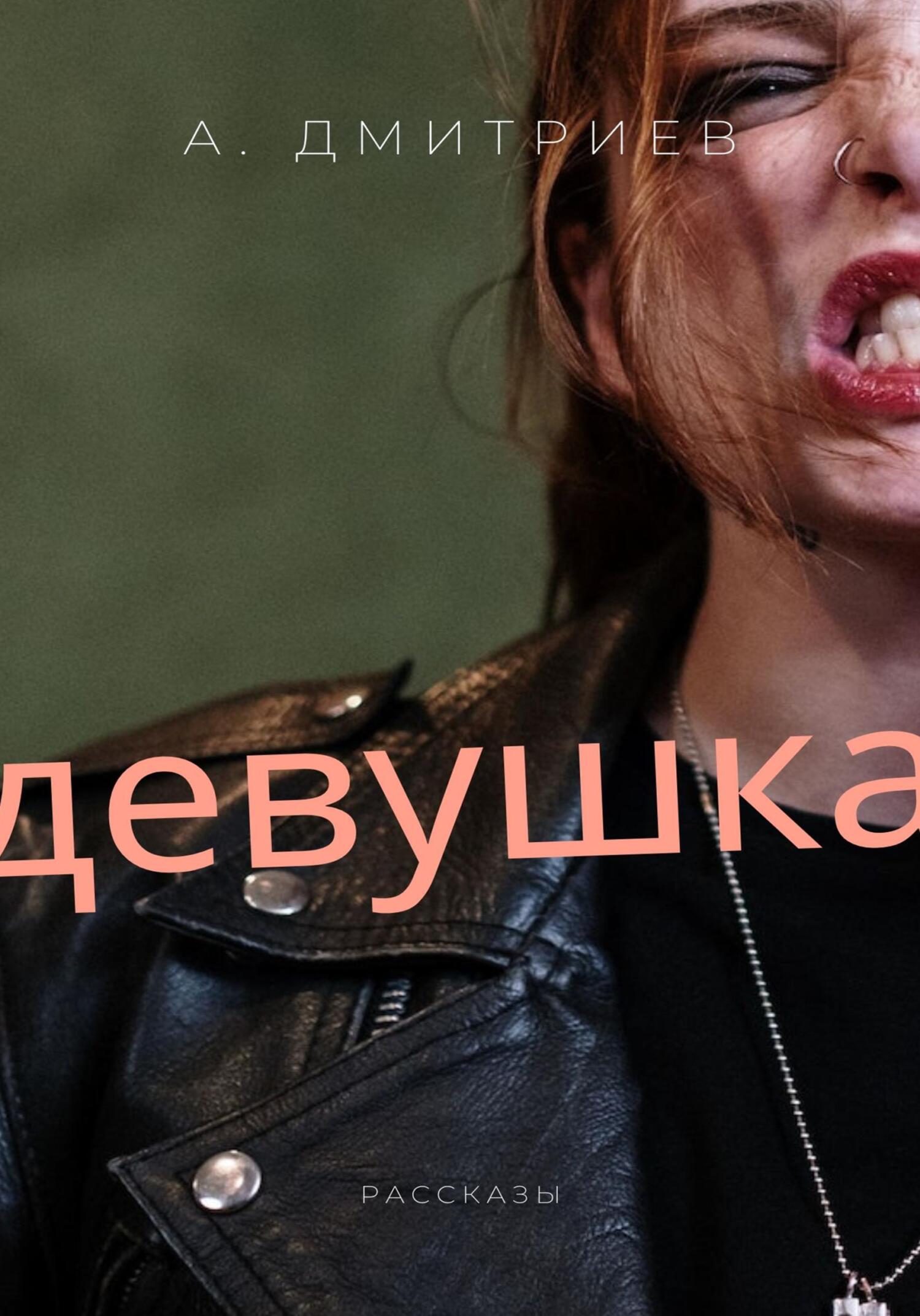воде вдали; глядел на гряду гор материка, не слишком и далекую, но смутную, как даль, и будто бы подвешенную к небу в дрожащем, тихо дышащем горячем мареве… Услышал над собой: «Калимера» – и поднял глаза. Сбоку стоял, нависая над столиком, высокий лысоватый малый, уже немолодой, но гладкий, загорелый и румяный – и, судя по веселой, нагловатой и вместе с тем доверчивой улыбке, еще не отвыкший сознавать себя молодым.
Он и был, как оказалось, Атанасио, хозяином кафе и отцом школьника-официанта. На неуверенном английском он спросил, чем может помочь гостю. Тихонин начал было объясняться, но Атанасио, не дослушав и не проронив ни слова, поспешил его покинуть по примеру сына… Вернулся скоро – с рыжеватой ладной блондинкой, привыкшей, судя по усталой, победительной улыбке, сознавать себя хозяйкой жизни. Она представилась:
– Фиона, – и, осторожно подсев к столику, тут же спросила: – Каррикмакросс?
Тихонин, извинившись, дал понять, что не знает греческого, чем ее сильно развеселил:
– Я решила, вы ирландец, как и я, но не из Дублина и не из моего Йола – там везде обыкновенные оттенки рыжего, как и у меня. А вот в Каррикмакросс или в Маллингаре – там еще можно встретить рыжих цвета меди, как у вас.
– Я не рыжий и никогда им не был, – мягко возразил Тихонин. – Я из России и давно седой. Просто моя седая голова отчего-то отливает медью на свету, и никто не скажет отчего… Я хочу поговорить об участке при дороге, который – рядом с супермаркетом. Там оливы и маленький огород в углу…
– Это Мелина, ее дом по соседству, она там держит огород, пока земля не продана, – сказала Фиона и пояснила: – Мы здесь все свои.
– И вы землю продаете? – уточнил Тихонин.
– Земля не наша, – ответила ему Фиона, – но хозяина мы знаем: мы здесь все свои.
– Он здесь?
– Нет, он в Мессонги бывает редко.
– Надеюсь, он хотя бы в Греции? – спросил Тихонин и признался: – Я не люблю решать дела онлайн, по крайней мере – с незнакомыми людьми.
Фиона успокоила:
– Он близко, в Керкире, и тоже не любитель разговаривать вслепую; думаю, что вы ему понравитесь.
Она торжественно, но и не мешкая, достала телефон из кармана кухонного передника, кому-то позвонила, с кем-то вступила в долгий разговор по-гречески. Ее улыбка, вдруг застыв, от слова к слову становилась все растерянней, пока не сделалась унылой, но и не исчезла вовсе… Окончив разговор, Фиона снова перешла на английский:
– Poor Ioannidis![2]
– Уже продали? – попытался угадать Тихонин. – Или хозяин передумал?
– Нет, ничего не изменилось. Спиридоний будет счастлив с вами встретиться. Он бы и сейчас сюда приехал, но не может – он хоронит Иоаннидиса. – Фиона помолчала. – Но если вы готовы подождать… или вы спешите?
Тихонин не спешил. Он заказал у Атанасио – и по его совету – тарелку жареного гавроса: так называлась мелкая, размером со снеток, жирная рыбешка, к ней салат с фетой, бутылку ледяной рицины и сладкий крепкий кофе, смолотый по-гречески, то есть в пыль.
Рицина нагревалась слишком быстро, Тихонин торопился допить ее холодной, и потому ее надолго не хватило; он попросил еще бутылку и, отдельно, лед в стакане. Зной стоял столбом, как если бы остановилось время, но тень навеса неумолимо отползала в сторону, понемногу оставляя беззащитными голые колени и ступни Тихонина… Он то и дело, скинув шорты, выбегал из-под навеса к морю, погружался в воду, теплую, как пар турецкой бани, и возвращался к столику, на котором Атанасио уже который раз менял стакан со льдом…
– Ты почему не плаваешь? – спросил он у Тихонина. – Не научился или не любишь море?
– Я люблю море, – сказал ему Тихонин, – но боюсь его воды. Тонул однажды, еле выплыл.
– В России?
– Нет, в Босфоре. Около Стамбула.
– Да, там это возможно, – меланхолично согласился Атанасио.
Почти безлюдное кафе порой совсем опустевало, и Атанасио все чаще останавливался возле Тихонина с коротким разговором – и, прежде чем Тихонин вдруг забылся, разморенный рициной и жарой, успел сообщить, что в своей прошлой, еще ирландской жизни Фиона изучала этнографию, а в жизни новой, греческой, об этнографии забыла, занялась семейным бизнесом, обычным в Месcонги: кафе, жильем, сдаваемым внаём, инжиром, абрикосами, двумя оливковыми рощицами на холмах между Месcонги и Мораитикой, а для души – самозабвенно погрузилась в бездну проблем своей новой родни, ловко распутывая отношения родных и близких Атанасио всякий раз, когда они запутывались сызнова.
…Фиона вывела Тихонина из забытья, и ее голос был тревожен:
– Не засыпайте, спать нельзя. Сорок шесть в тени. Спиридоний не простит нам, если вы получите тепловой удар, и я себе такого не прощу… Вам нужен душ и кондиционер. Вам нужно отдохнуть и подождать еще немного Спиридония… У нас неподалеку есть апартаменты для приезжих; сейчас там никого. Если хотите, Атанасио вас проводит.
Атанасио взялся отвезти его на мотороллере. Когда вырулил на дорогу, Тихонин попросил его притормозить у супермаркета. Нашел свою машину, извлек из ее салона, пыхнувшего жаром в лицо, рюкзак, к которому привык настолько, что забывал о нем, таская на спине, зато, когда снимал – не забывал его нигде; забежал в супермаркет; возле кассы, как и ожидал, нашел прилавок с сувенирами, открытками и путеводителями на разных языках. Купил, не выбирая, греческий и вернулся к мотороллеру.
…Апартаменты – двухэтажный, цвета светлой охры дом на каменистом невысоком холмике назывался «Эвридика» – по имени матери Атанасио, о чем тот как бы вскользь, но с чувством сообщил Тихонину и проводил его по внешней лестнице на второй этаж. В комнате с двумя кроватями, как в недорогом отеле, Атанасио раздернул шторы и запустил кондиционер. Уходя сквозь кухню, предложил Тихонину освоить по-хозяйски содержимое холодильника:
– Оливки свои, томаты свои, и сыр у нас свой – Эвридика делает сама, тебе понравится. Отдыхай пока, а Спиридония я приведу, как только он объявится.
Оставшись один, Тихонин постоял под душем, повалялся, голый, на кровати, не снимая с нее покрывала и бездумно глядя в потолок, по которому бежала многоножка… Зудение кондиционера вскоре надоело; Тихонин выключил его, распахнул дверь на балкон, и в лицо хлынул звон цикад. Не выходя из тени комнаты, Тихонин выглянул наружу. За тропой, проходящей мимо ворот, клубилась зелень холмов, облитых солнцем, в которой желтели, кое-где и розовели полускрытые деревьями дома с плоскими крышами… Тихонин сел на край кровати, в заученной последовательности извлек из рюкзака и расположил перед собой на туалетном столике: баночку черной туши, пенал, в котором оказались стальные перья, палочка-стило из кости и тетрадь для упражнений в каллиграфии – с не рыхлыми, но мягкими зернистыми листами чуть желтоватой, словно потускневшей от времени белой бумаги новейшего, впрочем, производства; затем достал путеводитель, приобретенный в супермаркете, и, положив его перед собой слева от тетради, раскрыл на середине. Он не знал греческих букв и, любуясь ими, не слышал в себе звуков, ими обозначенных, не мог прочесть слов, из этих букв составленных, но тем и ценен для него был греческий путеводитель – возможностью срисовывать в тетрадь все эти буквы и слова, бескорыстно, то есть бесполезно радуясь их красоте, но не задумываясь над смыслом этих букв и этих слов: когда Тихонин упражнялся в каллиграфии, он отдыхал от всяких смыслов.
Ровный и звонкий гул цикад не мешал ему слышать любимый шелест палочки из кости, потом и легкое поскрипывание пера по бумаге, – он срисовал