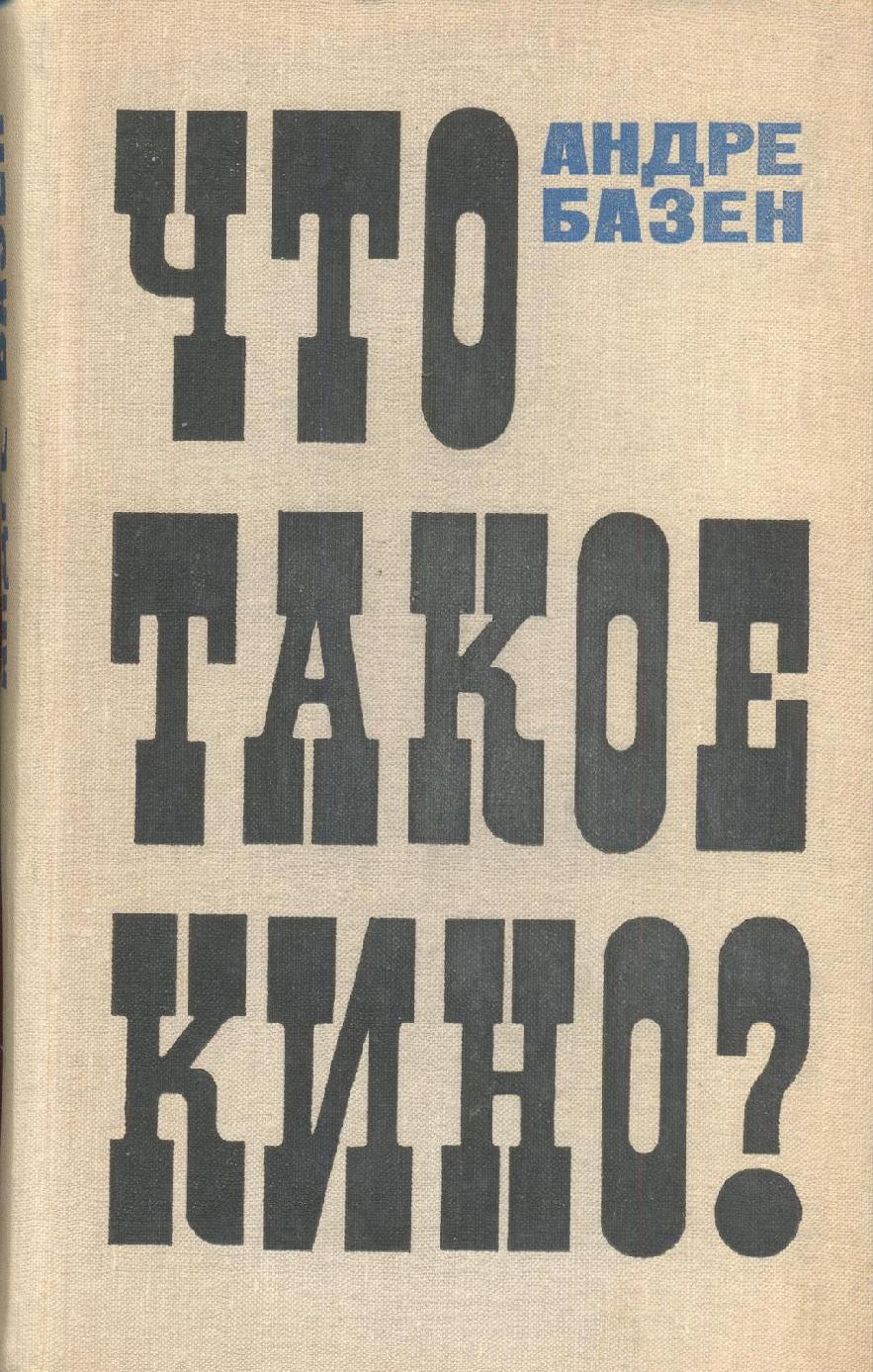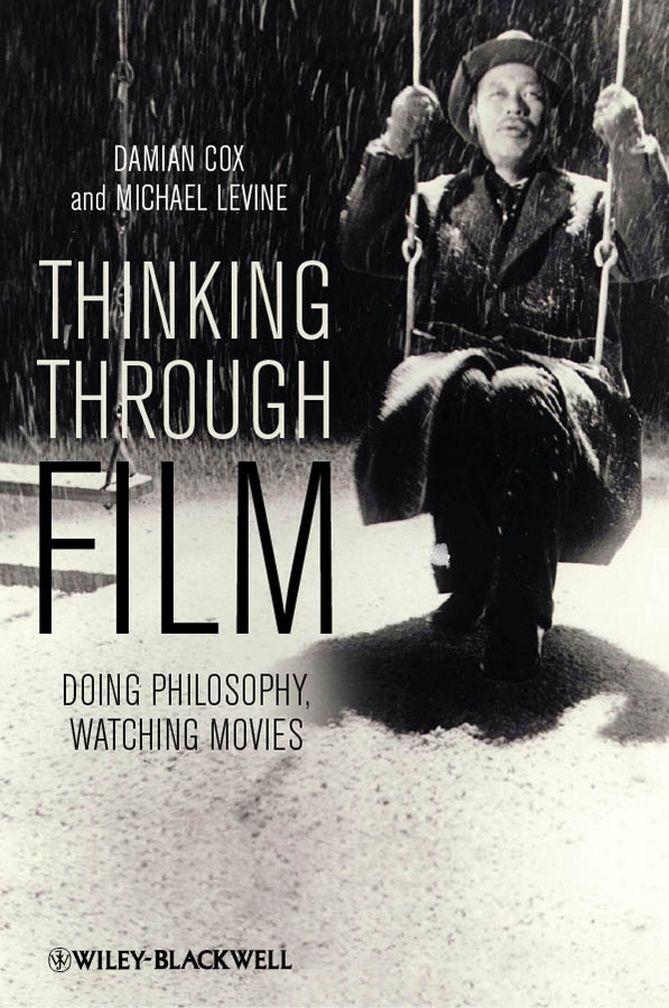Один только подъемник шахты, который держит рабочего как в тюрьме, чинит насилие над душой и закабаляет в тисках унизительного процесса, становится сильнейшей метафорой всякой машины.
Природа оборачивается в искусстве «пейзажем», в таких фильмах, как этот, – одухотворенным ландшафтом, и это уже другая природа, созданная самим человеком и получившая воплощение в индустриальном пространстве.
Физиогномия как категория и пансимволизм
По сути, я всё время говорю о том, какое большое символическое значение отведено в кинематографе миру вещей. Хотя, наверное, уместнее будет сказать просто «значение». В определении «символический» уже подразумевается смысл, но только скрытый, выходящий за границы исконного. То, что все вещи без исключения символичны, является для кино решающей отправной точкой. Ведь так или иначе, хотим мы того или нет, но физиогномическое впечатление производит на нас любой предмет, в любой момент времени. Абсолютно. Как время и пространство принадлежат к неотъемлемым категориям нашего восприятия мира, а значит, и опыта, в точности так же каждому явлению присуща своя особая физиогномика. И в понимании мира это обязательная составляющая.
Итак, при изображении предмета режиссер выбирает не между вещественной объективностью и собственно физиогномикой предмета со всеми закрепившимися в нем смыслами, но между физиогномикой, которой он владеет и которую волен сознательно использовать сообразно задуманному плану, и другой, насквозь противоречивой и всецело зависящей от случая. Звуки раздаются, хочешь ты того или нет, и превратить их в осмысленную мелодию необходимо, иначе они станут только помехой.
Комната может олицетворять безопасность, тихое, сокровенное счастье, но также уныние и тревогу, накопившееся, полное желчи отвращение, где угловатые контуры мебели кажутся лезвиями вскинутых друг против друга ножей. Комната всегда имеет особое назначение, как и слово. И потому употреблять его до́лжно осмысленно. Вещи символичны сами по себе, даже без малейшего с их стороны участия. И найти этим символам приложение – задача режиссера.
Какие замечательные открываются тут возможности! Вот только один пример, из настоящего кинематографического шедевра. Героиня фильма Любича «Пламя» – проститутка, страстно влюбленная в простодушного, невинного юношу. В преддверии визита возлюбленного, который, разумеется, ни о чем не подозревает, ей хочется превратить свою комнату – для представительницы ее профессии такую типичную, где каждая вещица отдает агрессией и лживостью, подобно нарисованным на лице румянам, – в благопристойные, солидные апартаменты. Она, как говорят, становится режиссером своей жизни. В этом волнующем порыве, за которым следуют лихорадочная передвижка и пересортировка, живо проступает не только символическое значение каждой вещи и ее место в интерьере, не только открываются два различных, по-своему «обставленных» мира, но также тревога, страхи и чаяния и вместе с тем – невыразимая нежность измученной души, мечтающей о новой жизни; и пока идет уборка, во время которой не произносится ни слова, и переставляется мебель, мы ощущаем всё это с невероятной силой и убедительностью, во много раз превосходящими те, что вызывает легшая в основу фильма пьеса. На экране нет банальных слов, которые бы утяжеляли действие, вместо них – режиссерские ремарки Любича и воодушевленная игра Полы Негри.
Аллегория в кадре
Наверное, тут можно усмотреть аллегорию. Ведь «всё преходящее только подобие». В жизни «только» – в фильме «тоже». Излишне, фальшиво и пошло переводить на экран литературные образы, придуманные в сфере понятий: нет надобности показывать в сцене смерти Старуху с косой или сломанную лилию, подспудно сообщая об утраченной девичьей чистоте. Не только потому, что шаблонные сравнения грубы и назойливы, но и потому, что – как уже было сказано – образ всегда проявлен в настоящем. То есть вещи живут в своей реальности и помимо нее наделены дополнительными смыслами. Однако если смыслы с реальностью не сообразуются, всякая вещь превращается в безжизненную и праздную виньетку.
На картине всё становится подобием. Не только формы и фигуры, но также свет, расположение и пропорции. Тут главное – сохранять бдительность. Не следует, к примеру, разыгрывать ключевую, полную трагизма сцену на фоне впечатляющей природы или большой толпы; иначе весь пафос и драматизм будут утрачены. Самый выразительный жест покажется по-детски беспомощным нервным подергиванием, случись он в окружении ледников, а самая кровопролитная дуэль поблекнет в волнах массового движения. Есть слова малозначимые, но малозначимых кадров нет.
Чудесное и призрачное
В кинематографе изображение природы – сфера особая, противоречивая и непростая. Природу, к примеру, можно кроить на все лады, даже по-экспрессионистски причудливые, но устранить ее нельзя. Иной даже подумает, что кинематограф, в силу его технических возможностей, является самым подходящим жанром для создания фантастических историй и сказок, полных чудес. Однако в действительности всё совсем не так.
Мы ощущаем инаковость вещи, пока существует представление об исконных формах, от которых она отходит. Собака размером со слона – зрелище неслыханное и тревожное, но только до тех пор, пока мы видим в ней собаку. Как только мы перестаем признавать ее за таковую, она превращается в другого зверя. Человек, высокий как дерево, страшен. А если это великан? Кого может напугать великан ростом с дерево?
Когда здесь происходят невероятные вещи, это вызывает у нас восторг и в то же время настораживает. Но в другом мире, в мире сказки, всё любое «из ряда вон» представляется само собой разумеющимся. Когда лицо природы искажается, оно порой приобретает химеричное, иррациональное выражение. Но только пока мы различаем в нем родные черты. Если формы рассыпаются, лицо полностью утрачивает выразительность. Одним словом, отобразить сверхприродное можно только через призму самой природы. Сказочные образы в кинематографе никогда не вызывают чувства их сопричастности к мистическо-трансцендентному, но порождают представления о другом мире природы, населенной неведомыми существами; и в них, как в бабушкиных сказках, всегда есть что-то сладостно-успокаивающее.
Изложенное выше отнюдь не значит, что за фильмы-сказки лучше не браться. Почему бы и нет? Сказки прекрасны и открывают кинематографу качественно новое поле для изобразительных возможностей, художественных и поэтических. Не нужно только ждать от происходящих на экране чудес никакого душераздирающего трагизма со всеми вытекающими последствиями. Не нужно воспринимать фантазии всерьез, даже если технические возможности кинематографа позволяют легко превратить любую иллюзию в реальность. А может, как раз поэтому. Ведь техническая подноготная кинематографа для публики не секрет, самые страшные фантазии ее только забавляют, поскольку – и это ясно как день – все они не более чем изобретательный трюк.
Есть веские аргументы в пользу того, чтобы не наделять сказочных персонажей сверхъестественными образами. Всё дело в природе кадра. Появление на экране одноглавого зверя само по себе не делает его более «естественным», чем зверя о десяти головах. Мы думаем, такого не бывает. И если бы здесь и сейчас перед нами предстала немыслимо жуткая тварь, мы не увидели бы в ней ничего сверхъестественного, самое большее