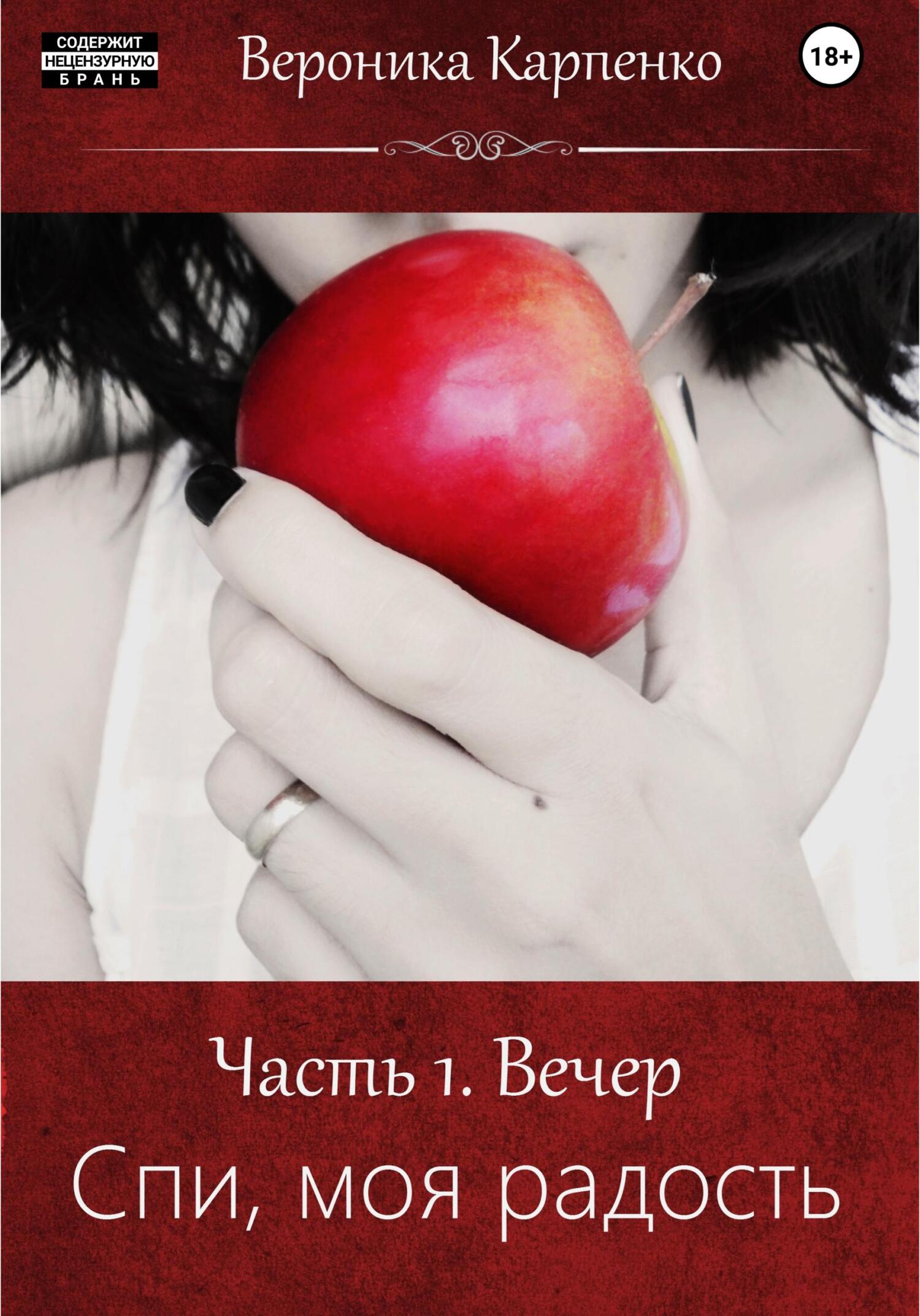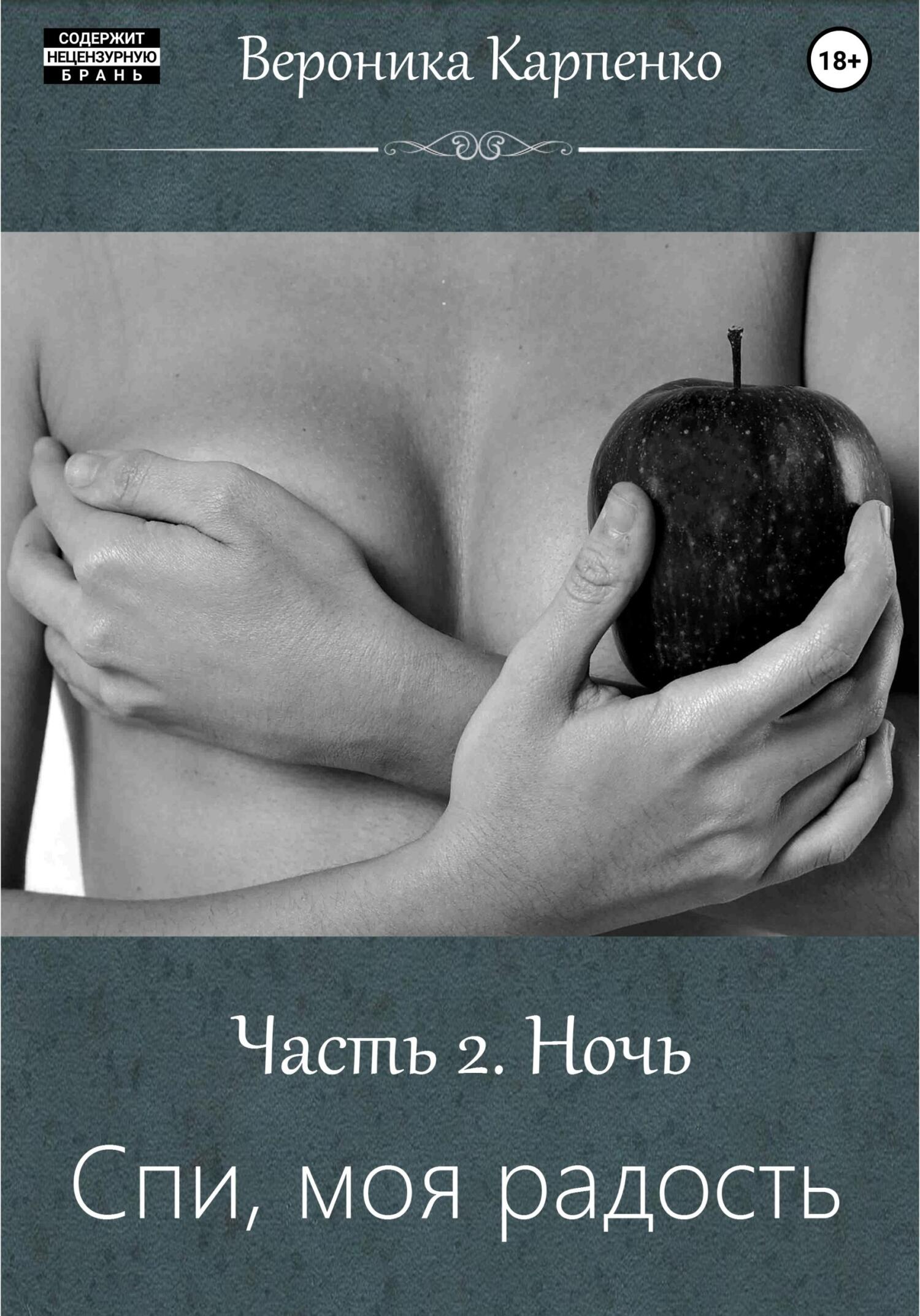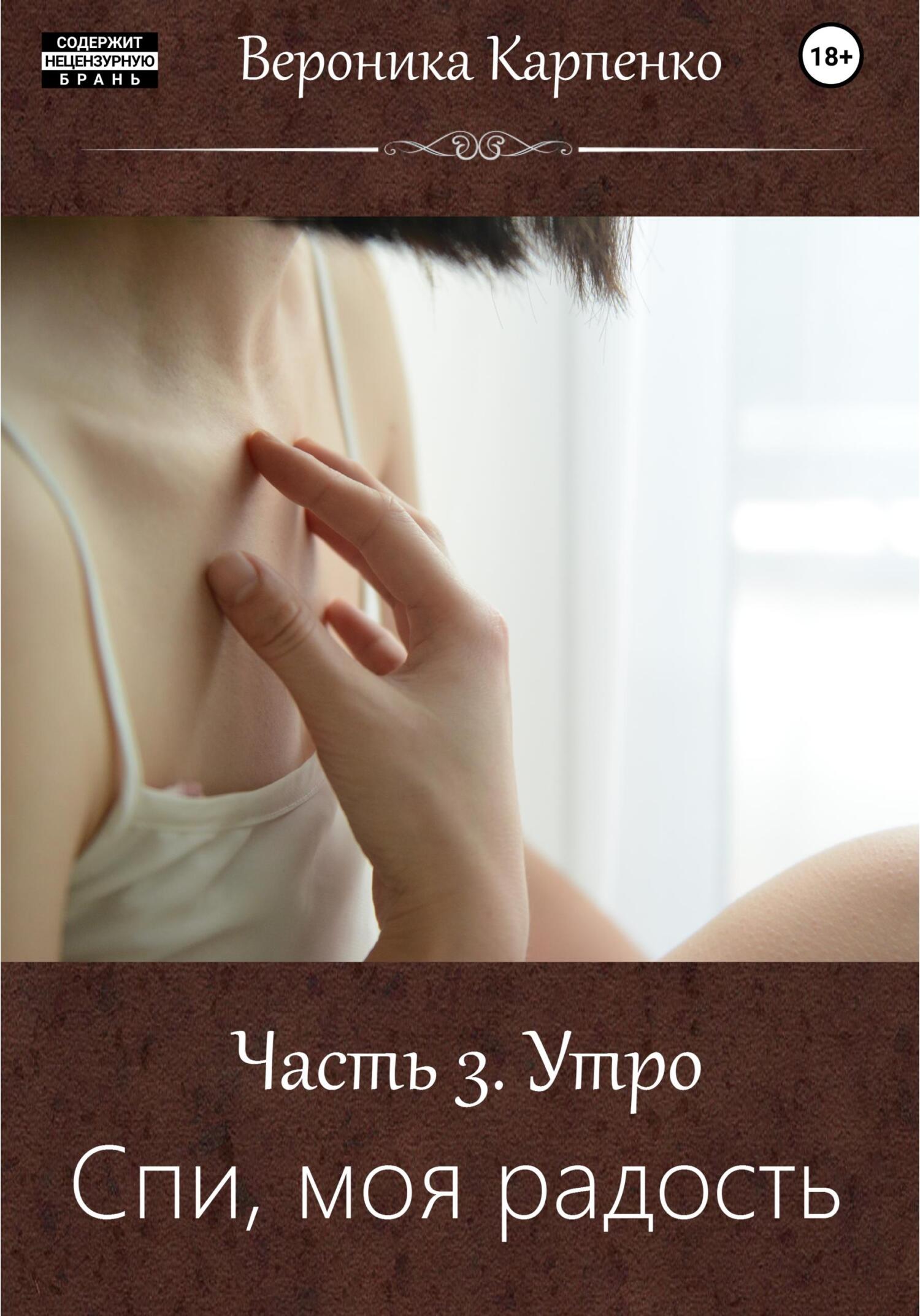небытия, она бросила мужа и дочку дома одних, она оставила учеников, стерев их всех со своей внутренней грифельной доски, словно какие-то непристойные строки, накорябанные мелом. Затем, не чувствуя под собой ног, Мадлен шагала и шагала, пока ее не прибило к берегу возле этой фермы, сердце мутило от вопросов без ответа, вся ее материнская душа была натянута как лук и перемешана с пустотой. Эти поиски без компаса понемногу сводили Мадлен с ума. Она снова сосредоточилась на водовороте. Если бы, к примеру, Алексис утонул, если бы он потерялся в воде так, что никто не мог найти его тела, тогда она знала бы, что делать. Она пустилась бы в путь вдоль реки с того места, где заканчивались его следы, переворошила все камни, ощупала каждый квадратный сантиметр береговой линии, заглянула под все коряги и каждое нагромождение плавника, осмотрела каждый островок, каждую заводь, каждую заросль тростника, каждый стебелек кувшинки. Ползала бы на коленях в прибрежной пене, закатав штанины и рукава. Перевернула бы дно реки, опрокинула небо и землю. Не колеблясь и не тревожась, что о ней могут подумать люди, не позволяя никому подвести себя к огню, чтобы согреться, не слушая тех, кто пытается вразумить ее. Она искала бы до тех пор, пока руки не растрескаются, пока ноги не сотрутся в кровь; она выпытала бы у реки правду и забрала своего сына. Да. Если бы он утонул. Но здесь и теперь… Она не могла искать следы его тела. Она искала следы его сердца. Ну почему он решил исчезнуть? Ну куда он мог отправиться, не оставив своим близким на прощание ничего кроме вопросительного знака? По телу Мадлен пробежала дрожь. Волоски на коже вздыбились от свежести воды, которая постепенно тускнела в свете наступающего вечера. Нет, копаться в реке было совершенно незачем. Мадлен копалась в своих воспоминаниях. Поднимала с глубины сеть, полную водорослей, разбитых ракушек, белых рыбьих костей, отвалившихся и никому не нужных чешуек. Копаться было не в чем и незачем. Сегодня Мадлен переночует на ферме, воспользовавшись любезным приглашением, а назавтра продолжит путь.
* * *
Алексис крутился и вертелся в бессердечном пространстве, в своем одиноком мире. Одежда присыхала к его тлеющей плоти. Время замирало, пространство терялось в замирающем времени. Смерть была белым кровотечением, заставляющим Алексиса сомневаться во всем — в аромате цветов, оттенке снега, постоянном небытии, которое начинало затушевывать воспоминания о деревьях, дорогах и неделях, о его собственной реальности, о нити его памяти. Он хотел, чтобы ночная синева обволокла и унесла его, но синева медлила.
Что же привело его в эту тесноту? Он снова и снова распускал полотно лет, петля за петлей, но, как ни старался, не мог воскресить в памяти час своей смерти. Последнее воспоминание было жарким и жестоким: жарким — потому что в тот момент знойное майское солнце стояло в самом зените, а жестоким — потому что у Алексиса осталось лишь видение этой жары, настоящей жары, погасшей одновременно с ударами его сердца. А то, что было после этого свинцового дня… Тайна. Мертвая память. Дырявая память. Что же могло произойти потом? Что привело его в эту яму одиночества? Что он сделал, чтобы очутиться здесь… или, наоборот, что забыл сделать?
Здесь, глубоко под землей, он слышал то, чего живые не слышат никогда. Он слышал самые низкие ноты в исполнении барабана. Мир, свободный от высоких нот, состоял из сердцебиения, бега реки, грохота бури, траурных речей. Здесь звуковая реальность утрачивала привычное равновесие, но Алексис полагал, что так и должно быть, когда оказываешься ближе к земному ядру.
Без сомнения, он предпочел бы уйти из жизни скромно, на цыпочках, никого не пугая и не терзая. Не в его стиле было разбивать жизнь близких подобной утратой. Так неужели он сам устроил свою гибель? Ускользнул из жизни в небытие каким-нибудь особенно ясным днем, непреднамеренно, без приготовления, случайно? Или же он спланировал собственную смерть? Увы, Алексис не знал ответов на эти вопросы.
Он ждал в полумраке. Где-то далеко подрагивал рассвет. Путешествие подходит к концу, ну так неужели никто не объяснит ему, к чему была вся эта долгая дорога? Что оставалось от него за пределами тела? Временами он засыпал в этой тишине; разум начинал мерцать.
* * *
За окном автомобиля проплывает пейзаж. Тени Деревьев, ветки, вспышки света. Мозг Алексиса лихорадочно работает. У него столько вопросов к Марлоу. Тот сидит слева, одна его рука лежит на Руле, верхние пуговицы рубашки небрежно расстегнуты; профессор спокойно ведет машину. По расчетам Алексиса, ферма находится примерно в пятнадцати километрах от университета. Это недалеко, говорит преподаватель. От студенческого городка туда можно дойти пешком по тропе вдоль реки. Они едут по противоположному берегу, где пролегает автотрасса. Добравшись до моста, который перешагивает через реку в нескольких километрах за фермой, необходимо свернуть на грунтовую, почти не проезжую дорогу. Объясняя маршрут, Марлоу кладет ладонь на руку Алексиса, пальцем чертя на ней путь и по-отечески похлопывая молодого человека по колену. Алексис взял с собой кое-какую одежду, десяток книг и спальный мешок, с которым ездил раньше в лагерь. Его учащенно бьющееся сердце то радуется, то тревожится. Он перечитывает план своего выступления. Будет около пятидесяти гостей. Алексис сомневается в том, что ему удастся хорошо прочитать доклад на публике. Он хотел было отказаться, когда профессор попросил его сделать этот доклад, но не сумел увильнуть от пристального взгляда сквозь очки в серебристой оправе. И вот уже сегодня именитые друзья его преподавателя с любопытством ждут знакомства с чудо-студентом. Ну что ж. Отражения деревьев провожают автомобиль, стремительно мчащийся вперед, и обратного хода уже нет. Алексис делает глубокий вдох, размышляя о том, на что похожа жизнь человека, чьи слова воспринимаются другими людьми всерьез.
Лесная дорога заканчивается, и посреди прогалины появляется некое сооружение. Стало быть, это здесь. Их встречает рослый темнокожий человек. Алексис чувствует, как его сердце начинает колотиться отчаяннее прежнего. Вслед за своими спутниками он входит в большой, добротно отремонтированный старый сарай с высокой балочной крышей. Зал уже полон. Напротив нескольких рядов стульев, расставленных полукругом, возвышается небольшой помост. Алексис проходит вдоль книжных шкафов и занимает место на этом помосте.
Усевшись на краешек стула, он дает себе несколько секунд на то, чтобы мысленно прощупать контуры собственного тела. Именно это ему советовал делать преподаватель виолончели перед любым выступлением. Пятьдесят пар глаз устремлены на Алексиса. Его руки слегка подрагивают, соприкасаясь с тканью брюк, но он держится