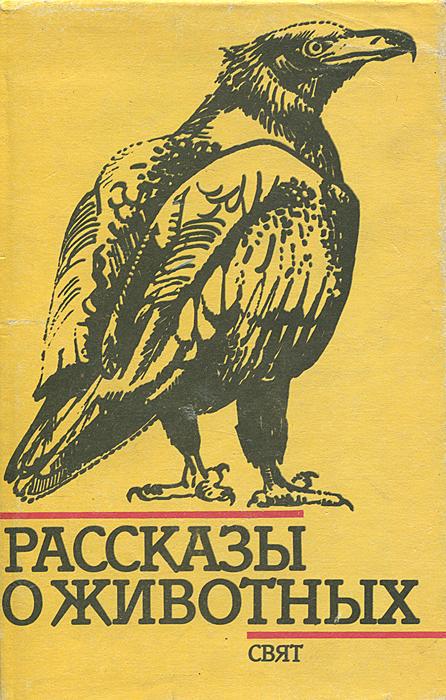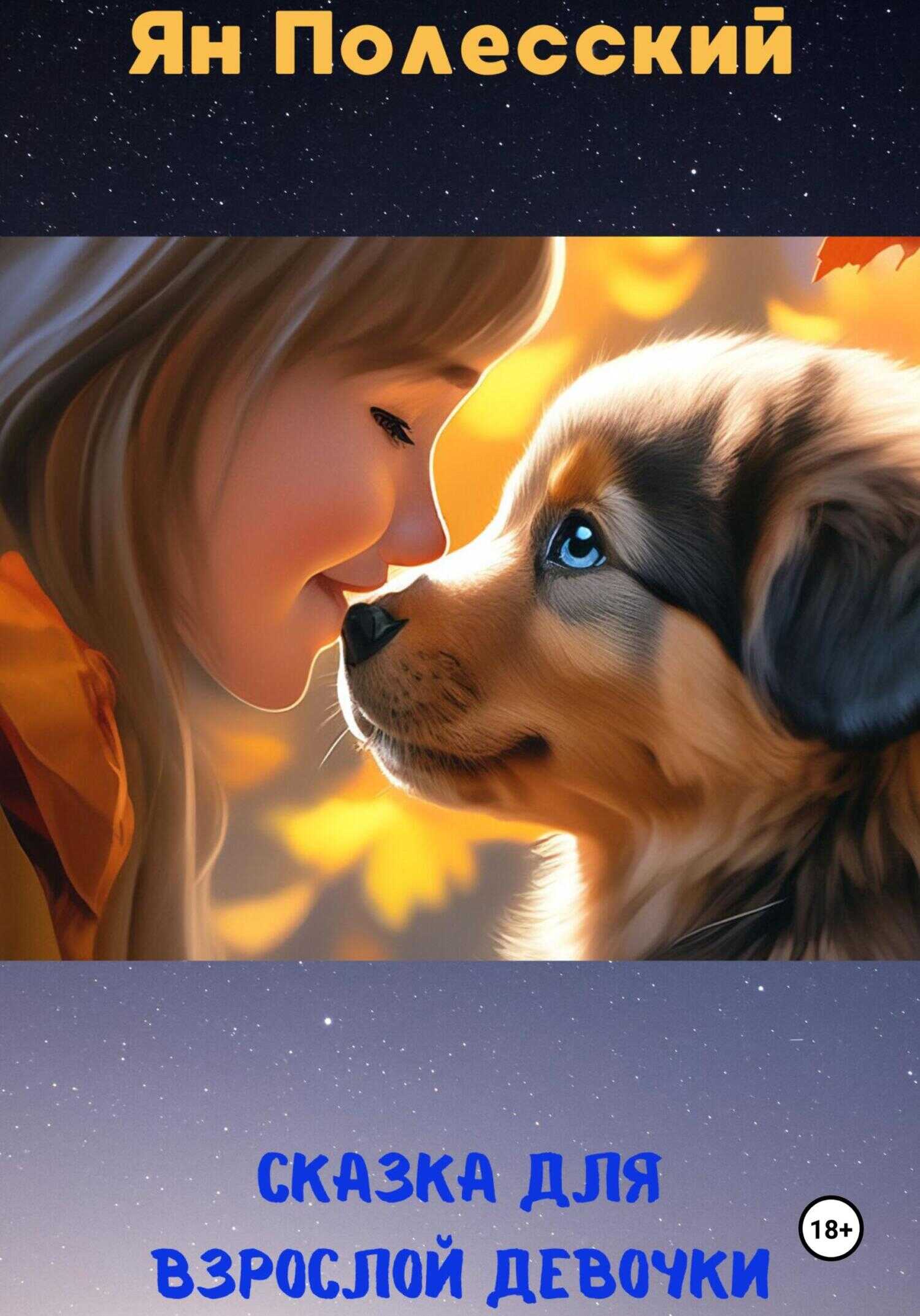из раковин хмельных, как брачные жалейки, бессильные уж сдуть фиговый листик. Стихи назывались лакмусовыми, и должны были помочь проявить отношение Клары Айгуль к Яну. Но когда утром он пришел в её корпус, Клары Айгуль не было.
ГАЛАТЕЯ
Прибывающий состав, исхлестанный югом, как штакетник, начал вставлять побитую лестницу в аляповатый скворечник таксидермичного полустанка "Окуль", состоящий из расплюснутых рёбер фронтонных маскаронов, лебедей да грифонов, что понукали свою известковую кровь, высунув язык над перроном, где, точно сухой лёд из вагонетки мороженщицы, слегка дымилась новоприбывшая бабка. Скорлупка каждой её клеточки затрещала, когда Сольмеке, подбежав к встречающим, жилистыми кулачками застучала по груди Дмитрия Патрикеевича, иногда попадая и по Яну: — Разве я не говорила, что её нельзя вывозить из Юмеи? Разве ты не видел, какой она стала, когда ты повез её из Сюгура на дальнее джайляу? И как я загнала колхозную кобылу, догоняя вас?!
Дмитрий Патрикеевич побледнел. Он, конечно, помнил, как, однажды весной, упросив его тайком от бабки проехаться с ней и с Яном к лугам Тау, девочка стала напряженной, с полуприкрытыми веками и замедленными движениями, будто копируя поведение своей матери Галы, которая жила в каком-то заторможенном в десять раз по отношению к окружающим времени, так что всяк желающий мог подойти к этой удлиненной, похожей на сонную газель, женщине, задрать подол и сделать своё дело, чем многие и пользовались. Он снова вздрогнул, как тогда, когда запыхавшаяся Сольмеке, подскакав к внучке, схватила её одной рукой за волосы, легко втянула на лошадь, положила поперек седла и, придерживая безвольную добычу локтями, ни слова не говоря развернула лошадь и умчалась восвояси. Последние дни ага Дир замечал, как девочка временами замирала и закатывала глазки, но списывал это на продолжение телячьих антимоний с Яном, начавшихся ещё на даче. А тут такой кошмар. Бабка потребовала немедленно отвести её в комнату Клары Айгуль и долго стояла, вглядываясь в чёрную дыру в полу под батареей, с корешками арматуры и линолеумными клочьями в пергаментных жилках. Такая же дыра была и под номером Клары Айгуль, в полу под кроватью в комнате Дмитрия Патрикеевича на первом этаже. — Всё-таки перекрытия здесь не фанерные, подумал он. Главное, он не знал, когда появились эти дыры.
Когда все они в тот же день возвращались в Юмею, Яну казалось, что Клара Айгуль не исчезла, но стала придорожной каймой, хрусткой, как коза в шиповнике, лисьим хвостом заметающем отстыдившуюся свадьбу, от которой остались видны лишь рожки да ножки, колкие, будто у розы Иерихона — перекати-поля, пришпиливающего до красной мякоти дорогу назад.
Клара Айгуль действительно не исчезла.
Она решила убежать домой в Юмею. Ещё перед отъездом в пансионат Ян, заросший космами как ярмарочный медведь, обдал первым перегаром её сразу опьяневший взгляд, и тот стал распускаться купоросной бабочкой совсем не в девственном, а в натруженном, словно рядом с роженицей, медленном воздухе, какой бывает у потной кинопередвижки в колхозном клубе, заедающей так, что всё невыносимо длинноногое, унесённое ветром, детям до 16-ти, застывает и плавится, темнея и зеленея подобно бёдрам кузнечика или другого складного насекомого, из которого со стрёкотом выдавливают кармин и кошениль, точно новую кровь, с чьей помощью задышал серо-карий бульон дотоле невинных девичьих радужек, будто там складывались и копошились новые, неудержимые личинки и личины той ярмарки, где на Яна и был надет медвежий ошейник благодаря чёткому, сфокусированному её безупречным, как девичья честь, хрусталиком, купеческому порядку.
За границами Юмеи порядок быстро нарушился. Вместо того, чтобы исправно посещать с Кларой Айгуль последние киносеансы в пансионате, и несмотря на предутренние стихи, Ян повадился в другое место.
Каждый вечер лунная помпа наполняла худую воздухоплавательную беседку с табунком тусклых коленок, битых, будто неокольцованные бычьи носы, что пучились во влажной полумгле подобно проявленной в обратном свете (свете Земли, отраженном Луной) ряби утопленницы, чья утонувшая жизнь видна, впрочем, в любом отражении, разбитом перламутром какого-нибудь берегового саксаула, преломленного в гулкой, точно камень, воде как скалистый ход в горной пещере у ближайшего перевала, где развеска упырей напоминает мох в патефонном, с чердака, чемоданчике, вжимающем в себя не граммофонную трубу, но еловую крону шумного тяныпаньского ствола, от которого однозубая пила оставила лишь обугленный кругляш — спил ключа, прокручивающего трескучий воздушный слепок.
Клара Айгуль захотела вернуть прошлое, то, что было в Юмее.
Она втянула ручки-ножки, чтобы семечкой упасть в сонную подкладку жизни, где живут не люди, но их розовые личинки, ещё не выпроставшие наружу члены и щупальцы дня цеплянья за корни едкой жизни, похожие на расплывы ржавчины с консервной жестянки с пансионатской кухни, которую с эфирным дребезжанием уволок кошачий, отнюдь не чёрный, но такой, какие люблю — с белой меткой вслед лапкам и грудке, хвост, остальные же девять буколических жизней утащили другие зверьки (суслики?) со звоном тарелок с кухонными видами стран, стяжавших славу, вольных над жизнью и смертью стёртых подданных, ибо жизнь человека, думала она, это нарисованная им страна, Клара Айгуль же жила вначале в гобелене, сотканном её взглядами-спицами — длинными, едкими тенями летучих, неуловимых стран, что вместе с пансионатскими девицами, показавшими ей водяную гадюку в окульском лимане, облетели с неё волчком острых листьев, высушенных степью — оставляя голую камышинку — исчезающую, как стрела, промежуточную девочку, плоти которой едва хватило на эхо, вещество времени. Кларе Айгуль привиделся их юмейский парк, где Ян шёл вдоль эха, вдоль голоса так, что в замершем леске вокруг него, слегка, словно талая тишь вокруг водомерки, морщился воздух, пока завистливый клюв с вороньей ветки, зацепив морщинку, червячным серсо не закрутил палевую мочку, головокружительное кольцо, первое из воздушных обручий и обручей, которые, задыхался Ян, будут, будут вскоре покорно нанизаны на наградной, вечерний, знакомый позвоночник, бесстыдный, как именная шпага. И тогда запульсируют в этих обручах плотные жилки, сожмутся змеиные мышцы крепкой пьяной хваткой, потому что, думала Клара Айгуль, если живешь в прошлом, то живешь в отжитом, в чем-то плотном, лишенном пространства, как длинный сплошной мускул в пьянящем гумусе, в земле, нашпигованной сакральными символами, на которые молятся люди: крестиками, звёздочками, мантрочками из веточек, камушков, листиков.
***
— Слышал я эти истории про кремниевых людей и от отца, и от тебя, — кричал Дмитрий Патрикеевич на кухне в юмейской квартире, — и что человеческий вид