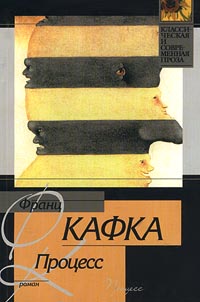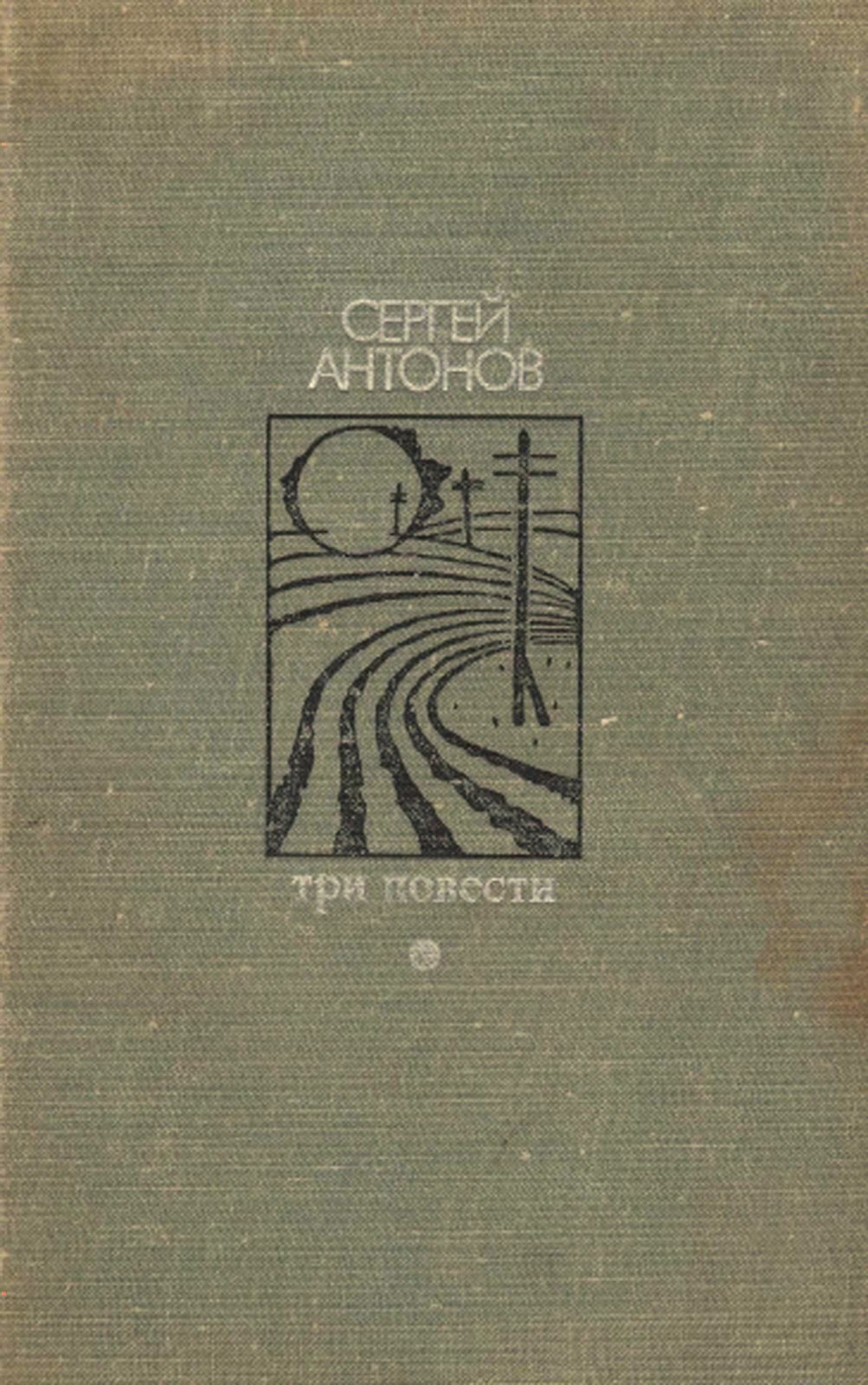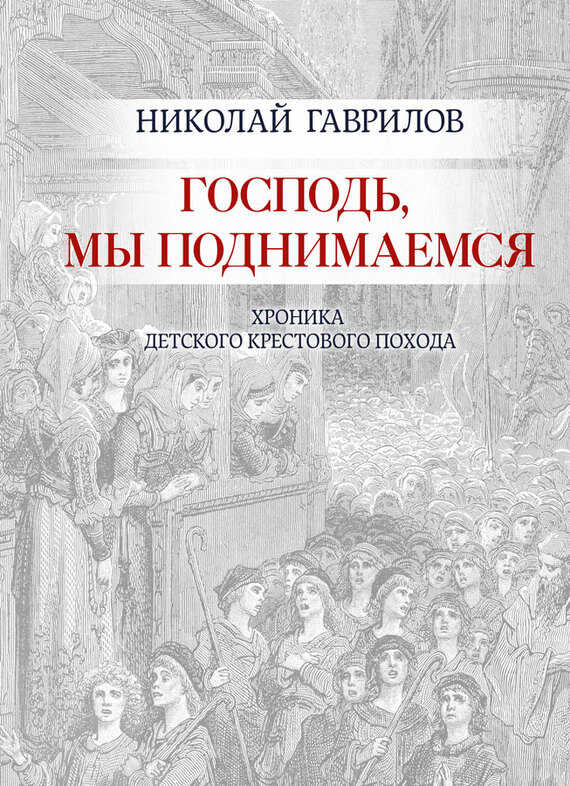тянуть по полу его выхоленное тело, так как преимущество его мускулов было несомненно. И потому, что мог представить себе только такой способ мести, сознание беспомощности обессиливало его ещё больше. В нём снова просыпался сельский парень с глухой враждой ко всему городскому.
Очутившись возле какого-то садика, он вошёл в него и сел на крайнюю скамью. Потом оглянулся, он узнал его — это был Золотоворотский сквер с двумя огороженными кучами развалившегося камня, которые и дали ему название. Охваченный приступом палящей ненависти, он пробормотал, криво усмехаясь:
— Тоже… Золотые Ворота!
Душевная рана вытеснила все мысли. Чувство того, что из дома он выходил гордым Стефаном, а возвращался Степаном, освистанным, не хотело покидать его. Он тупо смотрел на людей, проходивших мимо тёмными силуэтами, и в каждом из них усматривал тайных врагов.
Быстро, темнело. Плеск фонтана усиливался в сумерках, и густой вечер тихо подымался над кустами. Вдруг зажглись фонари. В своём уголке юноша давно уже остался один. Дневные посетители сквера — добродетельные папаши с газетами, мамаши и няни с детскими колясками — растаяли вместе с последними лучами света. На смену им слетелись ночные бабочки и их ловцы.
Степан встал, взял своё произведение и порвал его в клочки.
— Будь ты проклято! — сказал он.
Од шёл к Надийке, хоть ему было безразлично — видеть её или нет. Она радостно встретила его на углу, так как уже поджидала его, гуляя.
Увидев его, она радостно засмеялась, но он холодно поздоровался:
— Здравствуй, Надийка!
Поздоровавшись, двинулись к Царскому саду, и девушка с увлечением рассказывала о первом дне лекций в техникуме. Он сжал губы. В его институте тоже, верно, уже начались лекции. Ну, и пусть начинаются! Он сразу замкнулся в себя и хмуро смотрел на мир сквозь решётку, за которую сам себя запер. Смех Надийки казался ему нестерпимым. Её веселье обижало его. В нём поднялось недоброе чувство к этой девушке, и это чувство было ему приятно.
— А что пишет Семён? — спросила Надийка, не почуяв его настроения.
— Ничего не пишет, — ответил он.
Да, и вправду он этого не знал, так как письмо от товарища так и осталось нераспечатанным.
Надийка удивлённо посмотрела на него.
— Ты странный сегодня, Степан, — несмело произнесла она.
Он ничего не ответил и они молча дошли до Царского сада. Это молчание обидело девушку, и она остановилась, сдерживай слёзы:
— Я пойду домой, если ты меня не любишь.
Степан потянул её за руку.
— Люблю. Идём.
Он почувствовал свою власть над ней и хотел, чтоб она покорялась. Вся его досада сосредоточилась на ней, и если бы она вздумала спорить, он мог бы ударить её. Но она покорно пошла.
- Вдруг над садом взлетела голубая ракета и погасла вверху с тихим треском. Пускали фейерверк. Розовые, синие, жёлтые, красные огни со свистом взлетали кверху, чертили светящиеся дуги на тёмном фоне, взрывались и падали на землю искристым дождём.
Степан достал последнюю папиросу и закурил:
— Сволочи они все! — мрачно сказал он, сплёвывая.
Надийка с увлечением смотрела на невиданную ещё игру цветов и огня, заботе на миг о своём невесёлом спутнике.
— Кто? — не понимая, спросила она.
— Все, которые там смотрят.
— Мы тоже смотрим, — робко возразила она, испуганная его голосом.
— Думаешь, для тебя пускают? — сурово улыбнулся Степан.
Она вздохнула. Он повернулся спиной к огням и пошёл прочь. Надийка молча догнала его и посмотрела ему, в лицо. Озарённое огоньком папиросы, оно казалось холодным и безразличным.
Через несколько минут они очутились в чаще, где кончалась аллея и начиналась дорожка к обрыву. Тёмная поросль дышала влажностью и мрачным спокойствием. Остановившись на краю, они смотрели на его другую сторону, где тёмными великанами подымались группы деревьев, замерших в пугающем затишьи. Тишина кругом таила ожидание и страсть, словно перед грозой, и шум города внизу доносился, сюда далёким отголоском грома.
Папироска у юноши погасла, и он раздражённо бросил её в овраг. Потом обернулся к Надийке. С радостным трепетом почувствовала она его взгляд.
— Степанку, — спросила она, склонившись к юноше — Что ты такой… сердитый?
Он внезапно обнял её и прижал со страстью, расстравленной злобой и унижением. За это крепкое объятье она готова была простить ему прежнюю невнимательность. Схватив руками голову Степана, она хотела прижать её к себе и поцеловать, но он упорно душил её, обессиливал объятьями. Тогда девушка упёрлась ему руками в плечо, силясь оттолкнуть его, но должна была их опустить, застонав от боли и удушья. Она вдруг почувствовала, что он ломает, гнёт её, что колени её подгибаются и тёмная полоса неба плывёт перед глазами. И сразу упала навзничь, холодная от щекочущих прикосновений ветра и травы к обнажённым бёдрам, придушенная немой тяжестью его тела.
На западе всходил бледный месяц, пробиваясь сквозь тучи и листья и бросая на реку холодные блёстки.
Степан и Надийка молча сидели на скамейке. Желание курить мучило Степана, и он рвал пустую коробку от папирос.
— Почему ты молчишь? — спросил он, бросая обрывки картона.
Она грустно обняла его и упала лицом к нему на колени.
— Ты же любишь меня, а? — пробормотала она.
Он поднял её и отстранил.
— Люблю. К чему спрашивать?
Тогда она громко заплакала, захлёбываясь, всхлипывая, словно сдерживаемый разлив слёз сразу хлынул из её глаз разрушительным потоком.
Степан оглянулся кругом:
— Не плачь! — сурово сказал он.
Она рыдала, потеряв в слезах сознание и волю.
— Я говорю тебе — перестань! — произнёс он, дёрнув её за руку.
Она остановилась, но придушенный стон снова вырвался из её стиснутых губ.
— Я пойду, если так, — сказал он, поднявшись. — Ты виновата! — крикнул он. — Ты виновата!
И ушёл, полный скорби и гнева.
IX.
Жизнь страшна своей безостановочностью, безудержным порывом, который не отступает перед самыми страшными страданиями человека и показывает ему спину в моменты самой острой боли. Человек может сколько угодно метаться в её шипах - она пройдёт мимо со своими глашатаями, которые за страх и за совесть кричат миру, что без шипов не бывает роз. Она — тот всемирный наглец, который на просьбу ободранного нищего отвечает толчком, пощёчиной, ударом палки и проходит мимо, покуривая папироску, даже не повернув к своей жертве золочёный монокль. На развалинах землетрясения вмиг вырастают хижины для