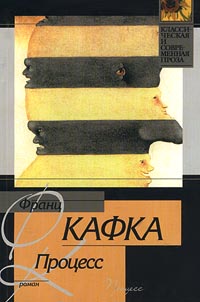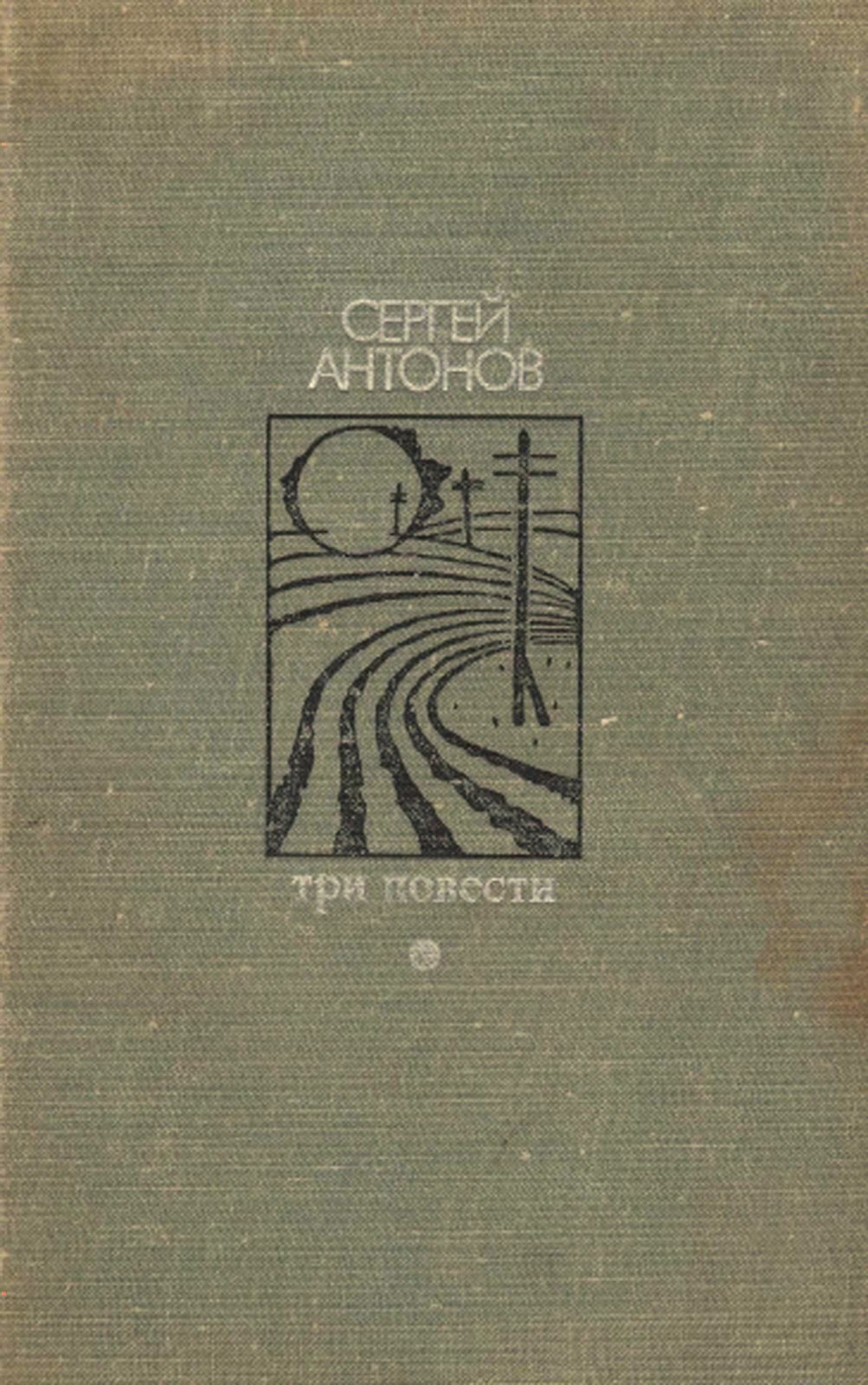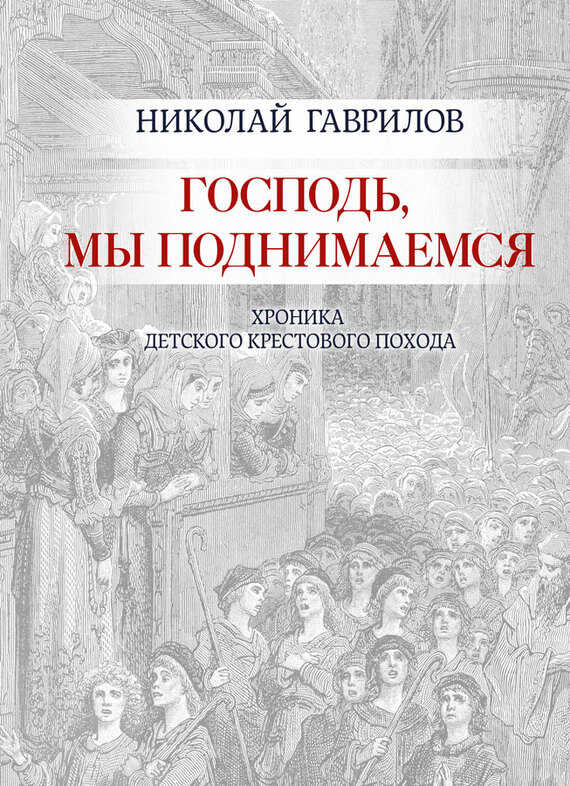желанием сохранить себя в подписи целиком и желанием сделать её звучной и яркой. Он перебрал много имён, ища заместителя своему имени, и внезапно его осенила чудесная мысль — немного переделать своё собственное имя, придать ему необходимую торжественность, изменив только одну букву и ударение. Он решился, подписался, и стал из Степана — Стефаном, окрестив себя, таким образом, заново.
Каждое произведение должно быть прежде всего напечатанным, чтобы попасть к читателю и очаровать его. Рассказы Стефана Радченко, подающего большие надежды, должны были украсить собою страницы журнала, и как можно скорей. Из журналов он знал только «Червонный шлях», [«Красный путь».] выходивший в Харькове. Туда и надлежало послать этот необычайный рассказ, но желание сейчас же, немедленно, услышать приговор из посторонних уст так томило юношу, что он решил прочесть его сегодня кому-нибудь опытному. Кому именно? Михаилу Светозарову, критику, который прекрасно говорил вчера с трибуны, привёл всех в такое восхищение и вызвал такие овации. Ему, ему и только ему! Он прекрасно знает литературу, он должен быть чутким к каждому новому веянию, тем более к такому свежему. Он должен поддержать новичка, направить, посоветовать. Это — в конце концов его обязанность и задача. Фигура критика в пылком представлении юноши становилась добрым божеством, которое доброжелательно примет его первое литературное жертвоприношение.
И Степан решил к нему обратиться. Он не знал, правда, его адреса, но творческая находчивость вмиг подсказала ему, что адрес можно узнать в адресном бюро. Как удобно жить в городе! Сколько тут удобств! Расспросив у Тамары Васильевны, где помещается это бюро, Степан перед обедом помчался туда и за гривенник узнал свой путь на литературные вершины.
После обеда он вышел за ворота свободным шагом человека, который нашёл своё место в дебрях мировой стройки. Легко проходил квартал за кварталом, останавливаясь перед витринами и афишами, чтобы доказать самому себе, что он никуда не торопился. Проходя вдоль скверов на Владимирской улице, против памятника Хмельницкого, зашёл и сел на скамью среди детей, которые скакали здесь, бегали вперегонки и подбрасывали мячи. Их веселье заражало его. Задержав мяч, случайно подкатившийся ему под ноги, юноша так высоко подбросил его, вровень с домами, что детвора весело зааплодировала и завизжала, кроме собственницы мяча, которая не надеялась уже получить с небес свою игрушку. Но мяч бомбой упал из-под туч, вызвав новый взрыв сумасшедшей радости. Дети поочерёдно давали юноше свои мячи, чтобы и они совершили такой головокружительный полёт, но он, взяв три из них, начал подбрасывать их все сразу, как цирковой жонглёр, вконец очаровав своих маленьких друзей.
В толпе детей переживал он сладкие минуты, не затуманенные ни мыслями о будущем, ни воспоминаниями о прошлом, чувствовал в себе полноту существования, которое само по себе даёт радость, не требуя ни надежд, ни планов. Он чувствовал себя птицей, которая, развернув крылья, останавливается в воздухе, охватывая маленьким глазом роскошную землю, как цветок, который раскрывает утром свою головку, проливая аромат навстречу солнцу.
Он пошёл дальше, попрощавшись с детьми, кричавшими ему вдогонку, и всё кругом приятно ласкало его взоры. Старая колокольня Софии, трамваи и волнообразная улица, обсаженная каштанами. Возле оперы он остановился послушать украинские песни в исполнении двух женщин и слепого старика — представителей искусства, которое вышло на улицу, затем свернул на Нестеровскую, куда его вело стремление и справка адресного бюро. Чем ближе подходил он к заветному дому, тем больше просыпалось в нём не волнение, а чувство, похожее на переживания стыдливой женщины, которая должна раздеться перед врачом: Он наспех подбирал слова для начала беседы.
«Извините, я написал рассказ и пришёл к вам, чтобы вы послушали его».
Нет, лучше:
«Извините, что я беспокою вас, но я хотел бы знать ваше мнение о своём рассказе».
Дом, в котором жил великий критик, тоже был велик и имел два флигеля во дворе. Полагаясь на своё чутьё, Степан взошёл на пятый этаж первого дома, но последняя квартира в нём имела двенадцатый номер вместо нужного восемнадцатого. Тогда он расспросил во дворе и пошёл в другой флигель, начиная уже волноваться. Ударив кулаком в дверь, он начал ждать, и сердце билось гораздо сильнее, нежели он постучал. Он постучал ещё раз, сам испугавшись своего упорства.
Вам кого? — спросила женская фигура, открыв.
— Извините, что я беспокою вас… — начал Степан, не узнавая своего голоса. — Я хочу видеть… — он запнулся, забыв фамилию. — Я хочу видеть критика…
— Критика? — удивилась женщина, придерживая рукой на груди капризный капот.
— Он, знаете, статьи пишет, — пояснил юноша, изнемогая под тяжестью своего креста. — Михаила…
— Михаила Демидовича Светозарова? Профессора? — поправила женщина, впуская его. — Да, да, это тут. Сюда.
Она повела юношу тёмным коридором. Степан трепетал, как молодой преступник, впервые забравшийся в чужую квартиру.
— Миша, к тебе.
Юноша вошёл в комнату, где у стола, за окном, среди кучи книг, не поднимая головы, сидел сам великий критик. Степан остановился па краю ковра и боязливо покосился на громадные книжные шкафы тянувшиеся
вдоль стен. Священный трепет охватил его холодком, и он согласен был бы стоять так час, два, без конца, ощущая что-то великое и томящее.
Наконец великий критик кончил изливать свои мысли на бумагу и вопросительно посмотрел на юношу.
— Извините, — сказал Степан, поклонившись. — Вы, товарищ Михаил Светозаров?
Сам понимая бессмысленность такого вопроса, он постарался хоть по мере возможности проглотить мало подходящее слово «товарищ».
— Я — Светозаров. А в чём дело?
— Я написал рассказ… — начал молодой человек, но остановился, увидев на лице критика неприятную гримасу.
— Мне некогда, — ответил Критик. — Я занят.
Этот оскорбительный ответ приковал Степана к месту. В тоскливом холоде отказа он понял только одно -слушать его не хотят.
Так как он не шевелился, то критик счёл нужным повторить, подчёркивая слоги:
— Я за-нят.
— До свиданья, — глухо промолвил Степан.
Выйдя со двора, пошёл прямо, незнакомыми улицами, унося в сердце нестерпимый гнёт бессильной злости. Никогда ещё он не был так унижен и уничтожен. Наглые слова этого книжного червяка легли на нём позорными плевками. Ну, пусть ему некогда, но назначил бы время! Пусть совсем откажется, но должен посоветовать, куда обратиться! И какое право имеет он так говорить? О, его до крови стегнул этот высокомерный, этот барский тон помещика от литературы!
Идя, потупив голову, он строил планы о мести. Он мог бы ударить этого слизняка, разбить его нахальное пенсне,