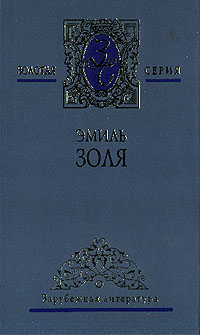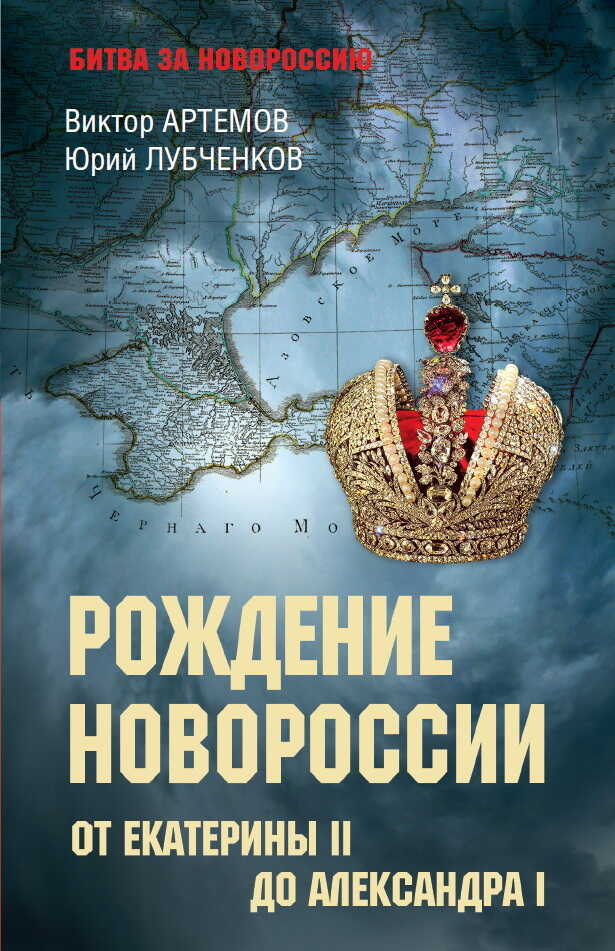не команда начальства, то вообще ничего бы не пояснял. Он — научный сотрудник, а не музейный гид.
В квадратном решетчатом отверстии в потолке рядом с двухрожковым, из желтой пластмассы светильником жужжало, и оттуда веяло холодом. Комнату разделяла высокая ширма, серая, утомляющая, без единого узора на полупрозрачной капроновой ткани. За ширмой было сумрачно. Деревянная кровать, около нее низкий столик с множеством флакончиков со стеклянными, туго притертыми пробками, с журналом наблюдений, с переносным прибором для срочных анализов крови.
На кровати под простыней лежал молодой человек. Руки его были заложены за голову, ноги вытянуты, глаза закрыты. Жак включил настольную лампу и уже не обращал внимания на Ивана Андреевича. Тонкие нервные пальцы Жака порхали по груди пациента, выжидающе замирали в поисках пульса, осторожно пальпировали брюшную полость. По уверенным, точным движениям Иван Андреевич отметил опытность экспериментатора. Потом Жак что-то записал в журнал. Задумался, еще записал. И наконец, проговорил бесцветно:
— Я готов ответить на ваши вопросы.
— Это, извините... без предварительных пояснений?
— Чего же пояснять? Для вас, господин профессор, здесь, думаю, мало нового. Вы уже познакомились с экспериментом Уоткинса. Здесь то же самое, только процессы более глубокие. Кое-какие отличия есть, но — пустяковые. Стоит ли на них тратить время?
— Пустяковые, говорите? Думаю, что это — уже кое-что. Я бы просил вас — об этих пустяковых отличиях. Если, разумеется, будет дозволено мне прикоснуться к вашим святая святых.
— Дозволено... Странное слово, — сдержанно улыбнулся Жак. — Завидую, господин профессор. Вам интересно. Одно ваше слово, и по команде нашего шефа вам тотчас преподнесут полное описание всего эксперимента и всех отличий. А у себя дома ваши научные рабы (они же у всех крупных ученых есть) расшифруют. В ваши руки попало бы самое ценное — конечный продукт... А вам, оказывается, лично интересно.
Жак сунул в карман пиджака авторучку, встал и будто приблизился к гостю, который еще так и не присел:
— А мне, господин профессор, признаюсь, нисколько не интересно. Надоело! Более того, осточертело. Одно и то же, одно и то же. Каждый день, уже который год. Да и не согласен я со многим в своей же работе. Например, с термином «продление жизни». — Он вяло кивнул в сторону солдата на кровати. — Сколько времени он будет лежать, столько и я должен около него... киснуть. Но он, будем считать, обеспечен долголетием, а я? Когда стану старой развалиной, кто-то придет мне на смену. — Жак присвистнул сквозь зубы. — Зачем тогда деньги, что я получу за работу в научном Центре? Да и и вообще... — Он покачал головой и отвернулся к капроновой ширме. — А вам, оказывается, интересно. Не обманываете ли вы себя? Я, например, не верю в свою работу. Не верю! — Глаза Жака заблестели.
Иван Андреевич смотрел на него смущенно. Смутила откровенность, а ее — откровенность — он чувствовал безошибочно. Сейчас не играет Жак, не вводит в заблуждение — вот что важно.
— Извините, Жак, в таком случае почему вы... здесь? Вы же свободный человек.
— Контракт! Надолго...
— Извините... Но эксперимент с солдатом, надеюсь, ваше детище?
Жак усмехнулся:
— Кто вам сказал, что это — мое? — Он коротко взглянул на солдата. — Ничего моего нет. И у господина Уоткинса тоже не его. Он пытается что-то предпринять... Господин профессор, и ему, и мне дали точные задания, выделили подопытные организмы. Разумеется, у каждого из нас разные варианты. Вот мы и выполняем задания строго по писаному. А за самоволие... Впрочем, это правильно. Если каждый будет менять строго разработанную систему огромного эксперимента, к чему же придем? Результату нельзя будет верить. А Уоткинс на что-то рассчитывает...
«Итак, задание. Значит, разработкой занимались другие люди. Может быть, тот же Гровс. Вот кому известны все корни...» — задумался Иван Андреевич.
Жака будто подменили. Он уже не был скучным, мысль его обострилась, и он говорил, говорил...
Солдат находится в состоянии, похожем на состояние анабиоза; это вроде зимней спячки у некоторых животных. Вначале температуру тела довели до двадцати девяти градусов. Были использованы медицинские препараты, вводились внутривенно, самым обычным способом. На помощь призвали внешнюю среду, прежде всего — холод. Научный Центр оборудован по последнему слову техники. В каждой квартире, в каждом доме — мощная аппаратура; воздух можно нагревать, увлажнять, можно делать заморозки. Если потребуется — пожалуйста, заморозки во всем городе. Купол — надежная защита от нежелательных факторов...
Рассказ этот доставлял удовольствие самому Жаку, он словно припоминал забытое, будто сейчас экзаменовал самого себя в присутствии постороннего человека и утверждался как специалист. В отрыве от большого мира, в постоянной изоляции от смежных проблем, нацеленный только на сухое следование заданию — в таких условиях немудрено дисквалифицироваться. А он, Жак, многое помнит, знает, поэтому свою работу пытается увязывать с последними достижениями биологии.
Иван Андреевич взял с тумбочки журнал наблюдений. Давление крови, температура тела, биохимические анализы... Удивительно то, что человек жив...
— Скажите, пожалуйста, господин Сенье, меня интересует ваше личное мнение: вы считаете нравственно допустимым такой эксперимент?
Жак засунул руки в карманы, прошел вдоль ширмы.
— А почему я должен беспокоиться о нравственности? Не я, так другой будет на моем месте. Будет! Почему же не поладить мне с собственной совестью?
— Вот-вот, и другой человек, такой же, как и вы, тоже небось рассуждает подобным образом. Так и получается... Все закрыто куполом, хотя и прозрачным, а все же непроницаемым.
— Вы, господин профессор, в злодеи зачислили меня. А ведь прежде всего у вас, у таких, как вы, надо спросить: как допустили преступные исследования на человеке? Я считаю, что этот солдат уже не человек вовсе, а пока еще живая модель. Неизвестно, каким выйдет он из своего состояния, если вообще удастся вывести его. Вы, господин профессор, занимаете высшее положение в обществе, вы и такие, как вы, определяете политику. Вот с вас и надо спросить!
— Позвольте, при чем здесь политика?
Жак запнулся.
— Я хотел сказать: определяете политику в науке... Так и следует понимать мои слова.
Даже при недомолвках Жака спорить с ним Ивану Андреевичу было интересно. Живой человек этот Жак, а не дипломатический протокол с его непроницаемой вежливостью. Он — первый в научном Центре, который не скрывает своих мыслей и чувств. «Это — слабость его? — раздумывал Иван Андреевич. — А может быть, одна из форм протеста? Черт-те что! Язык не поворачивается — подопытные люди...