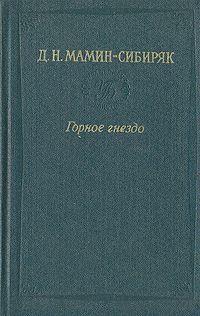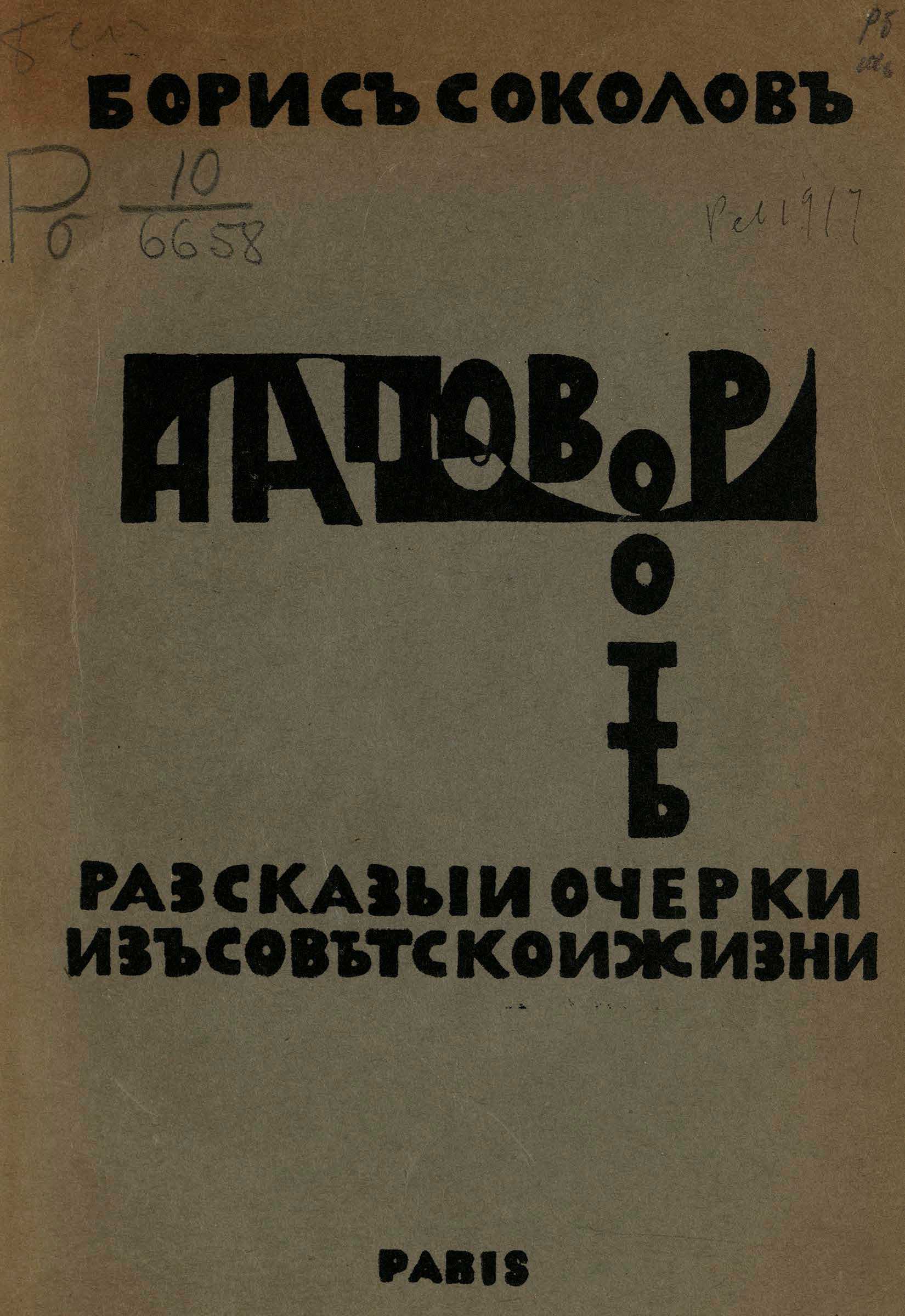и тут Юрас назвал ее дурой. Но ведь Моника только хотела поскорей найти место для ночлега. Сестра говорила: «Когда будете в Каунасе, непременно заходите ко мне, дом номер шестнадцать, возле рынка». А теперь придется таскаться с этой корзинкой. К тому же Моника была так напугана рассказами о городских карманщиках, что еще дома, потихоньку от мужа, зашила десятку под подкладку его пиджака. Она шла и все оглядывалась, не крадется ли за ними какой-нибудь вор. Но навстречу и сзади шло столько народу, все так толкались и торопились, что она не знала, как тут ходить, хотя муж еще на пароходе учил ее: всегда держись правой стороны. Ухватившись рукой за локоть Юраса, другой прижимая к себе корзинку, чтобы кто-нибудь не вытащил оттуда яиц, она держалась правой стороны и все-таки задевала прохожих. Муж показывал ей дома, витрины магазинов, объяснял, что в них выставлено, а к тому же нельзя было не провожать глазами автомобилей, мчавшихся с какими-то странными гудками, похожими то на петушиное кукареканье, то на блеянье овец.
Никогда в жизни не надеялась Моника повидать таких чудес, столько народу, столько улиц, магазинов. Все ее влекло, манило, ей хотелось все посмотреть, все услышать.
— А вот, а вот, Юрас! — она показывала на толстого господина в черном, с цилиндром на голове, вылезавшего из машины. — Что это у него на голове?
— Не показывай пальцем! — сердито заметил муж, — здесь так не принято. Должно быть, министр, я видел, они все носят такие.
Юрас решился спросить полицейского, что это за дом, и тот, вежливо приложив руку к козырьку, объяснил, что это здание сейма.
— Там сейм, говорите? — переспросил он, словно не совсем еще уверившись, однако очень довольный учтивым подтверждением полицейского. Ему, простому человеку, оказывают такое уважение! А приятнее всего было то, что он может показать жене сейм.
— Как тебе, Моника, ни объясняй, как ни толкуй, ты все мимо ушей пропускаешь, — ворчал Юрас на забывшую это слово жену. — Сейм — это палата представителей. Раньше был царь, а теперь наши представители. Вот они-то и постановили, чтобы нас наделили землей. Представителей мы сами выбираем, а если они не годятся, мы — новых!
Юрас с таким удовольствием говорил: наш сейм, наш полицейский, наши банки. С каждым он может заговорить по-литовски, и никто его не оттолкнет, не заставит снять шапку.
Постояв перед сеймом, молодожены уже хотели уходить, но Юрас подумал, что здесь можно бы посмотреть и Монике показать, как их избранники управляют страной. Когда они подошли совсем близко к подъезду, к воротам шумно подкатила большая машина, послышались легкие шаги, промелькнула блестящая нарядная одежда, кто-то в синем встретил входящих, низко кланяясь им, и, забежав вперед, распахнул перед ними двери. Затем человек в синем вышел снова и, так как Тарутис все еще стоял, сам того не замечая, с шапкой в руке, сказал, загораживая вход:
— Ну-ка, отец, налево!
Так Юрасу послышалось. Тут смелость покинула Юраса. Следом за ним поплелась и Моника, и скоро доброволец опять стал показывать: вот дворец президента, вот трамвай, а вернее сказать, конка. Им обоим захотелось покататься на этой конке.
Много чего они повидали. Когда мимо прошел взвод солдат, Юрас остановился, закурил папиросу и заметил:
— Одеты, как генералы. А мы — босые сражались…
Монике еще и еще хотелось осматривать город, она то и дело просила: поведи меня, покажи, где этот сад, где башня, о которых ты рассказывал, где самый большой костел, а что это тут поставлено, почему у того на плечах золотые нашивки, о чем кричат эти ребятишки?
— Я бы век здесь жила, хоть впроголодь, — говорила она. — И хорошо же господам живется, кругом стекла, зеркала, ни грязи, ни…
Юрасу не хотелось жить тут, другое дело — приехать, сходить в театр… Но Моника готова была бросить землю, только бы жить так весело… Она непременно привезет сюда сына, когда подрастет, чтобы ему все это показать.
Находившись, они проголодались, и надо было найти какое-нибудь местечко, чтобы расположиться со своей корзинкой. Нашли скамейку, но едва успела Моника достать яйца, как подошел полицейский и вежливо предупредил, что здесь нельзя закусывать.
— Раз нельзя, ничего не поделаешь… — ответил Юрас.
Они зашли в маленькую, на первый взгляд скромную и дешевую закусочную, где не было посетителей, и, усевшись в темном углу, попросили чаю.
Когда Моника увидела на подносе у официантки булочки, глаза у нее засверкали.
— Хочешь? Закажи себе.
— Тогда и ты, Юрас.
— Я не хочу, по мне хлеб сытнее. Бери же! — погладил он ее по руке, радуясь, что может предоставить своей голышке хоть что-нибудь из городских благ.
Моника боялась, что это будет стоить слишком дорого, но муж успокаивал: если мы уж и булочки, приехав в Каунас, съесть не можем, так зачем тогда и жить!
Она откусывала маленькими кусочками и качала головой:
— Язык можно проглотить. Ну и еда у господ! Им это нипочем. Верно, чеколад в них кладут, — чистый сахар.
Она заставила и мужа откусить так, чтобы никто не видел.
— Вкусно, что и говорить, но при нашей работе на такой еде не продержишься. Это для писак — резиновых животов! — объяснил он.
Она завернула еще одну булочку для сынишки. Но когда Юрас спросил, сколько с них следует, сладкий кусок застрял у нее в горле.
— Верно, я не расслышала…
Они сидели и смотрели друг на друга.
— Да я готова назад все выплюнуть: господи, три марки! У нас за жирную курицу больше не получить, а тут за одну воду… Пойдем отсюда скорей, а то еще за сиденье возьмут, — говорила Моника при официантке, укладывая свою корзинку; она повязала свой платочек, смела в сторону скорлупки. — Три марки! Думают, раз деревенские, так уж и дураки…
— Каунас грохочет — все денег хочет! — многозначительно сказал Юрас и направился показывать жене городской сад. Но Моника приуныла:
— Пойдем-ка лучше поищем ночлега, я больше ничего не хочу, если опять так дорого придется платить.
Доброволец несколько раз махнул рукой:
— Да забудь ты об этих трех марках, ну их в болото! Вот, кажись, и городской сад! Нет, должно, это не тот… Нет, тот! Я и забыл, что там театр, — знаешь, где представляют, где опера.
Оперы никогда не видал ни Юрас, ни его жена, но ее двоюродная сестра, которая жила возле рынка, смотрела оперу и, когда приезжала, рассказывала: там и небо со звездами, и море; поют, как ангелы, наряжены в шелка и золото. Одних музыкантов не меньше сотни! До того красиво, что сердце