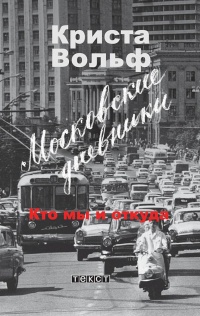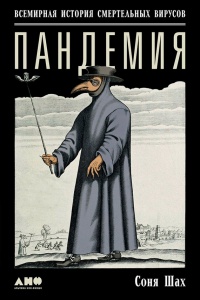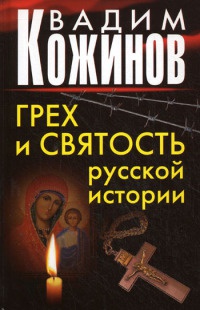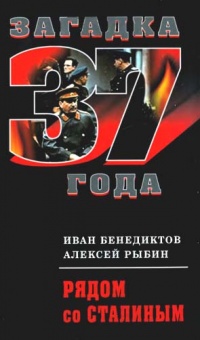деликатно. Тени у век странного цвета, почти бронзового, тоже — едва, самую малость. Но Сонины глаза, огромные, серо-голубые, очень славянские Сонины глаза стали еще выразительней. Что правда, то правда.
— Красотка, — признала Канцероген.
— Вот эта, пожалуй. — Танечка наконец выбрала помаду.
Снова закрыв глаза, Соня втянула ноздрями клубничный, легкий, свежий аромат помады…
И тотчас к нему примешался, наслоился запах дорогого мужского парфюма. Это Фридрих. Соня открыла глаза.
Фридрих склонился над ней, чмокнул в щеку:
— Я тебя подвезу.
— Спасибо, Феденька, спасешь! Я опоздала. Они уже полчаса сидят. — Соня обалдело взглянула на себя в зеркало: хороша! Яркий рот, может быть слишком яркий? Она бы никогда так не рискнула — насыщенный карминный цвет, такой победительный, почти агрессивный.
— А не слишком? — неуверенно спросила Соня.
— Дура, так и ходи, — велел Фридрих. — Фам фаталь. Роковая. Татьяна, продай ей помаду. Я покупаю.
— Ты зайдешь? — спросила Соня, когда они подъехали к ее дому.
— Что я, французов не видел? — буркнул Фридрих. — Я их, Софья, не люблю. Скупердяи, сутяги, пьянь. Скучнейший народец. Говорить с ними не о чем. Две темы: деньги да бабы. Про деньги — где достать. Про баб — кому сбыть. Иди, Софья.
Соня сидела в машине, не торопясь выбраться на волю. Ей тоже не хотелось никуда идти. На душе гнусно, тошно. Этот кожаный наглец все еще стоит перед глазами.
— Что у нас за новый завлит, откуда? — спросила она. — Наглец редкостный! Какая за ним рука-то? Такое ощущение, что у него папа в ЦК, а мама в Совмине.
Фридрих не спешил отвечать. Он дышал тяжело, одышливо. Темные, с густой проседью, перец с солью, влажные кудрявые его волосы прилипли ко лбу. Жара. Он толстый, ему тяжко, задыхается.
— Почти угадала, — сказал он наконец, глядя на черную «Волгу», стоявшую возле Сониного подъезда.
Шофер и плотненький, корявенький человек в штатском курили у машины, травили, верно, развеселые байки, похохатывали.
— Угадала, — повторил Фридрих. — Почти. Я тебе, Софья, открываю страшную тайну. Знаешь, почему нашему Мейерхольду «Фому Опискина» разрешили? Сняли запрет? Знаешь?
— Нет. — Соня покачала головой.
— Они ему сказали: «Давай валяй своего “Опискина”. С нашими, райкомовскими коррективами, конечно. Но вот тебе наш человек, наш райкомовский Буревестник. Черной молнии подобный. Он у тебя будет завлитом. Отныне будет тут реять. Гордо. Поняла?
— Поняла. — И все оборвалось у Сони внутри.
Ее сдали. За полторы копейки. Она сама разменная монета. Ее разменяли за милую душу. Больно. Как больно, ну какие ей французы сейчас?!
— Я тебе ничего не говорил. — Фридрих смотрел в окно, на черную «Волгу». — Ладно, Софья, не журись. Все к лучшему. Я тебе нашел работу — сказка. Мечта! Давай иди, перетерпи своих Жан-Люков. Я за тобой заеду к семи, отвезу тебя на смотрины.
— Фридрих, может быть, тебе тоже из театра уйти? — тихо спросила Соня. — Тебя ведь тоже разменяют когда-нибудь, не ровен час…
— Я соглашатель, — буркнул Фридрих, доставая из кармана патрончик карминной помады, выкупленный у Танечки, надо полагать, втридорога. — Держи. Дарю. Тебе идет.
— Спасибо. — Соня открыла дверцу. Ей не хотелось терять Фридриха, не хотелось, чтобы он оставался в казарме, над которой теперь будет реять, расправив кожаные скрипящие крылья, этот райкомовский Буревестник, и она повторила с какой-то упрямой мольбой: — Фридрих, давай вместе уйдем! Что ты, работы себе не найдешь? Ты же сам говорил, тебя в четыре места зовут. Уйдем, ты ведь там взвоешь, под Буревестником-то!
— Я старый, — пробормотал Фридрих. — Мне лень. — Он повернулся к Соне. Его черные, узбекско-еврейско-армянские глаза блеснули насмешливо и грустно. — Он Буревестник. Я Пингвин. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах Ничего, нормально. Это мой стиль, Софья. Моя стратегия. Иди, Софья. Тебя заждались.
Соня вызвала лифт. Какие французы? Выгнать всех, потушить свет, забиться в угол тахты, лечь лицом к стене. Ее предали. Ее сдали. Разменяли, как медяк.
Нет, придется вымученно улыбаться, плести светскую беседу, любезничать с чужими людьми. «Коман сава?» — «Сава бьен».
Сава хреново, мсье-мадам. Такова советская ля ви. Вам этого не объяснишь, давайте лучше водочки хлопнем.
Соня открыла дверь. В прихожей пахнет чем-то горелым. Нет, печеным. Вкусный запах, дачно-пионерский. А! Это они картошку пекут. Надо же!
Из кухни слышались голоса — веселые, хмельные. Соня глянула на себя в зеркало — карминно-красные, темные, резко очерченные губы, растерянные глаза. Странно. Другая женщина. Сережа не узнает.
Мужики шумели на кухне, смеялись. Незнакомый мужской голос, низкий, хриплый, властный, грубоватый, что-то быстро говорил по-французски. Это Бернар, наверное, французский дед-ветеран. А кто им переводит?
Соня постояла, раздумывая, куда ей идти — на кухню или в комнату. Поразмыслив, направилась к комнате.
Вот тут-то он и вышел ей навстречу. Он вышел ей навстречу, он был выше на две головы, Соня подняла глаза…
Было довольно темно, в коридоре всегда полумрак, даже в солнечные дни…
Мужчина лет сорока, высокий, смуглый, стриженный очень коротко, стоял на пороге комнаты и смотрел на Соню.
Он смотрел на Соню, молчал, и… это самое главное, именно это Соня всегда потом будет вспоминать, такая смешная подробность, но очень важная… и глаза его медленно округлялись, темные низкие брови ползли вверх. Что-то в этом было невзаправдашнее. Чрезмерное. Как на этюде по актерскому мастерству, Соня тысячу раз сидела на вступительных в ГИТИСе. Когда экзаменатор, позевывая, предлагает какому-нибудь юному обалдую из Мценска: «Вот представьте себе. Вы в первый раз видите женщину. И понимаете, что это судьба. Вот покажите нам это, попробуйте». И обалдуй таращит глаза, округляет их, брови ползут вверх. Он стоит окаменев, будто суслик на лесной ночной дороге.
И этот рослый смуглый брюнет — он точно так же стоял. И глаза у него были как плошки. А Соня знала, что никакой в этом нет фальши, никакого наигрыша, все правда.
Все правда. Через минуту он опомнится, встряхнется. Ему будет неловко. Он заговорит с Соней нарочито сухо, отчужденно. Да он и говорить-то с ней не сможет, он — ни слова по-русски, она — по-французски.
Ведь он же француз? Кто он?
Через секунду он будет другим. Но сейчас, но теперь он настоящий, он выдал себя. Все, ты себя выдал, не отпирайся.
— Сонька, наконец-то! Ты где пропадаешь? — Сонина свекровь, Полина Ивановна, бой-баба, невероятно подвижная при своей полноте, поднырнула под рукой незнакомца, вынося из комнаты поднос с пустыми тарелками.
Незнакомец очнулся. Его расколдовали.
— Андре, вы ж вроде покурить хотели? — по-свойски спросила у него свекровь. — Во-он туда, на балкон.
Только теперь Соня заметила, что в правой руке незнакомец сжимает пачку