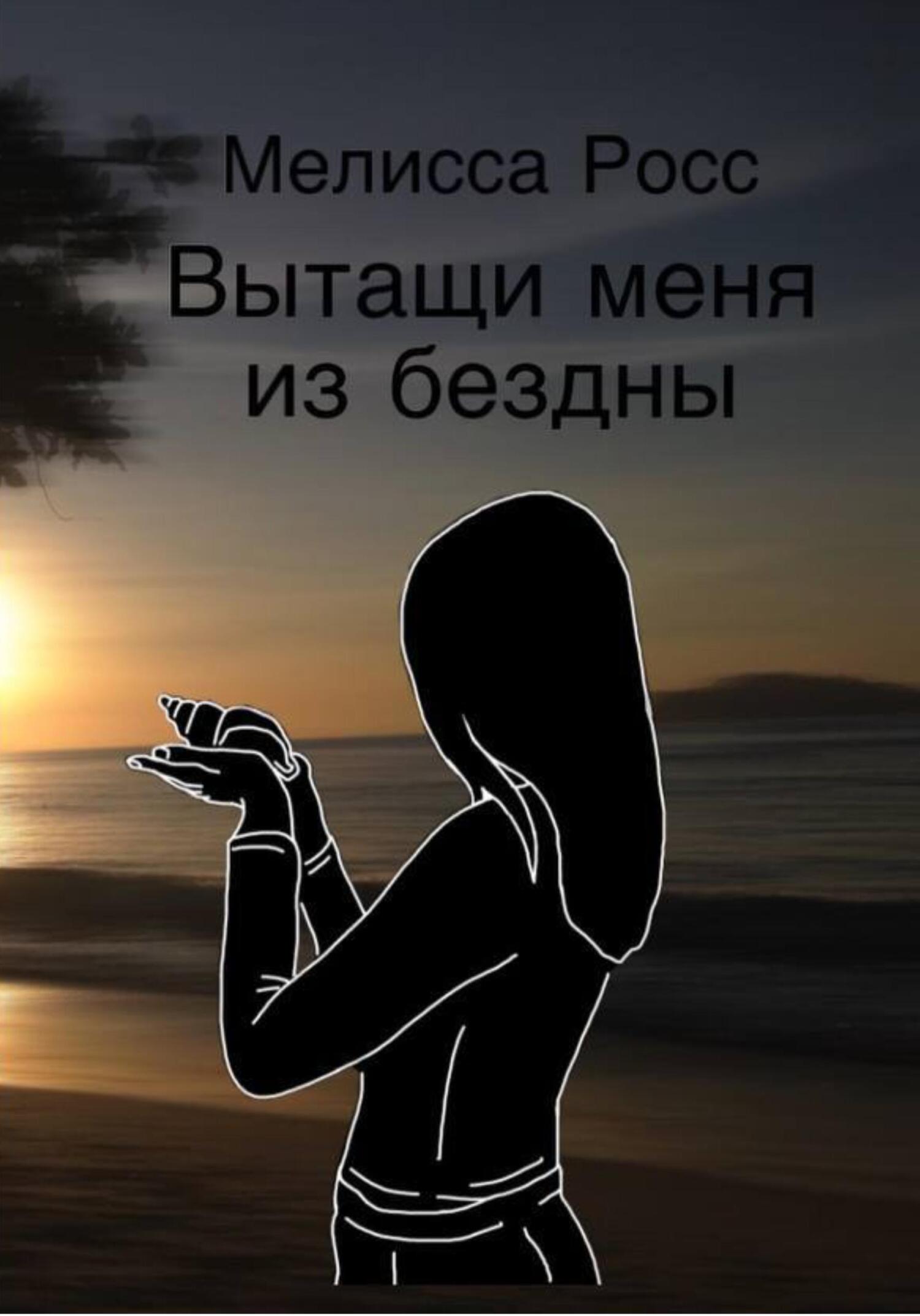коробок консервов, перечисление пойманных досок и описание примет, целой массы утопленников.
Я чувствовал себя исполненным гордости из-за этой якобы торжественной миссии.
Но злая судьба захотела, чтобы я, развлекаясь с морским биноклем наверху, на круговом коридоре, отравил себе и это маленькое удовольствие.
Это было в самый день моего отпуска. Я разглядывал с любопытством рифы кита. Погода была относительно ясная, волнение не очень сильное, а дождик, разогнанный теплым, чисто весенним ветром, перестал, чтобы позволить волнам несколько погреться.
Без сомнения он зарядит снова, потому что. скверная погода — это тоже одна из привычек, от которой небо почти не отделывается; но теперь на мгновение можно было вздохнуть свободно.
Я поставил бинокль по глазам.
Какой-то предмет лежал белым пятном на черноватой спине подводного камня.
Эта спина лоснящаяся и скользящая, как шкура тюленя, тянулась на несколько метров, очень напоминая собой киль судна, опрокинутого ураганом.
Ни травинки, ни кусочка водоросли, ни песчинки в его дырах. Совершенно гладкая скала, которую вода полирует, вот уже целую вечность.
А поперек — синеватое тело.
Да, там качался труп, широко раскинув руки и ноги; волна шевелила вокруг головы что-то вроде куска темной материи
Тело было совершенно нагое.
Меня, не знаю почему, сейчас же бросило в жар, когда я увидел, что оно обнажено.
Оно казалось таким белым, таким чистым, с такими тонкими и закругленными членами, таким красивым.
— Это — женщина!—воскликнул я.
Темная материя... волосы... громадные распустившиеся волосы. На ней не было спасательного пояса. Эта молодая женщина доканчивала свое разложение под теплым июньским солнцем.
Мне хотелось плакать и...
Мне хотелось хохотать тем скверным смехом молодых парней, которым наплевать на стыд нагих девушек.
Я быстро спустился по лестнице к старику.
Он собирался приготовлять лебедку, так как скоро должен был явиться наш пароходик. Нахлобучив свою фуражку до самых ушей, согнувшись почти вдвое, он двигался по эспланаде, как несчастная больная птица, ободранные крылья которой, лишенные перьев, волочились по камням, и тащил за собой гарпун, точно громадный голый хвост.
Я остановил его одним словом:
— Старший!
— Что? — проворчал он, вздрогнув.
— Еще один утопленник на спине кита. На этот раз это уж баба!
Я не помню, зачем я прибавил эту фразу, но ее было достаточно, чтобы старика всего перевернуло.
Он вдруг выпрямился, ставши громадного роста, — он — такой согбенный; глаза засверкали, осветив все лицо страшно бледное; с жестом ужаса он направил гарпун на мою грудь:
— Ну да, там женщина, Пусть, парень, она там и остается.
— Отлив сдвинет и сегодня вечером притащит тело к нам, дед Барнабас. Впрочем, нам не придется делать описание этого последнего номера: она раздета с ног до головы, бедная дама.
— Отлив не сдвинет ничего.
— Но, почему же? Мне уже странно то, что она не переместилась в течение трех суток...
— Ну?..
У меня были свои доводы. Я очень пристально смотрел на старика, грозившаго мне гарпуном, и находил, что цвет его лица меняется все больше и больше.
Наконец, ужасное оружие выпало из его рук.
— Ты видел меня вечером в лодке, ты?
— Да, я видел вас, дед Барнабас. Какая смелость!.. главное, когда уже больше нельзя никого спасти!
— Она была мертва,—прошептал он срывающимся голосом. — Однако, не мешало в этом убедиться.
— Она также была вся голая... но это совершенно необычайно, что она не могла отцепиться от рифа...
По мере того, как я задавал свои вопросы, мне казалось, что в моем уме проясняется целый ряд темных пунктов.
— Ну что, — зарычал он, попавшись в капкан, оглушенный воем сирены, возвещавшей приближение нашего парохода. — Ты, может быть, не донесешь? Я бы, конечно, спас ее, будь она жива, бедная баба... Но она уже почти сгнила... тогда... Немного больше, немного меньше... Я закрепил ее двумя грузами.
— Свинья!
Мы стояли один против другого, лицом к лицу, бледнее всех мертвых, носимых океаном.
Наконец, мы поняли друг друга...
Дав задний ход, „Святой Христофор”, описал полукруг, повернувшись своим левым бортом и, по обыкновению, окликнул нас в рупор.
Не проронив больше ни звука, одним общим движением рук, как два каторжника, прикованные к одному веслу галеры, которые работают всегда вместе, мы бросили буек, выловили канат, прикрепили его к лебедке и опустили ее. В это время пароходик, выпуская белый дым, свистел, раздирая нам уши.
— Го! Тяни! Тяни! Кверху!
Одним общим движением мы налегли на канат.
— Кверху! Тяни! Тяни! Го!
До нас добрался тюк с припасами, затем явился мой заместитель — второй тюк просмоленной материи; его нужно было вытащить и подбодрить стаканом рома, предложенным мной.
Наконец, в свою очередь, повис на веревке и я, чтобы лететь на „Святого Христофора”, где меня встретили очень сердечные ребята.
Я мог смело сказать, что в течение шести месяцев не видел ни одного человеческого существа.
От радости у меня текли слезы из глаз.
Это заставило улыбнуться господина офицера.
VII.
Я устроил себе праздник, Да! Как же! Весело провел время, нечего сказать! Пришлось бегать из одной конторы в другую... Там тебя остановят, здесь задержат, тут начнут расспрашивать о подробностях кораблекрушения... точно мне что нибудь было известно о нем!
Я то, что я и знал, о том твердо решил не говорить.
В Бресте только и было разговора, что о гибели „Dermond-Nestle”. О нем очень жалели, так как, действительно, это была очень крупная потеря.
Когда я закончил все свои рапорты, подписал все свои бумажки и вдосталь наговорился о том, чего не видел, мне осталось ровно двадцать четыре часа на отдых и развлечение.
Двадцать четыре часа в течение шести месяцев!
Ну, и веселье! Мы выпили бутылочку вместе с одним моим прежним товарищем по плаванию, встретившись случайно в кабаке нижнего порта, около арсенала, и навели друг на друга уныние рассказами о своих злоключениях. А, между тем, в моем кошельке позвякивали деньги. Несколько больших серебряных монет.
Я старался своими разговорами внушить ему немного уважения к себе, — новому смотрителю маяка.
— Понимаешь, старина, башня, принадлежащая государству! На ней, брат, спокойно: сам себе начальник.
Он качал головой.
— Да, да, это верно, только... слушать всегда, как мяучит ветер... у тебя, Малэ, не особенно хороший вид.
— Ну, конечно... и ветер тоже...
Я замолчал. Приходилось останавливаться после каждой фразы: мне было очень трудно говорить как все.
Мой язык заржавел за эти полгода, проведенные на маяке.