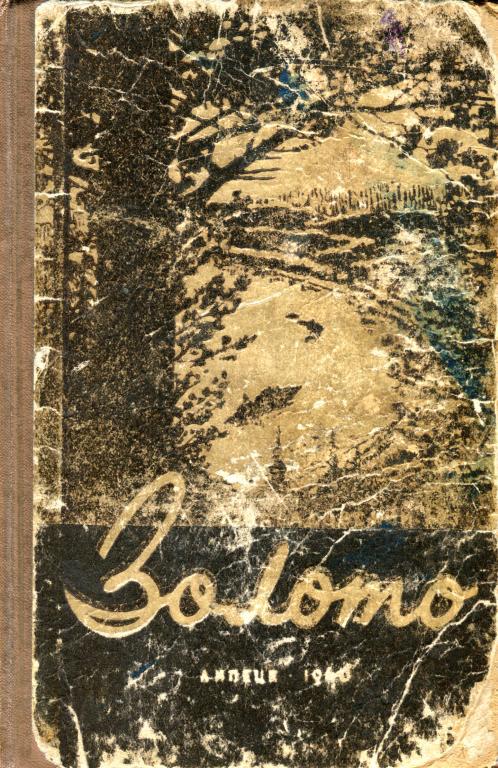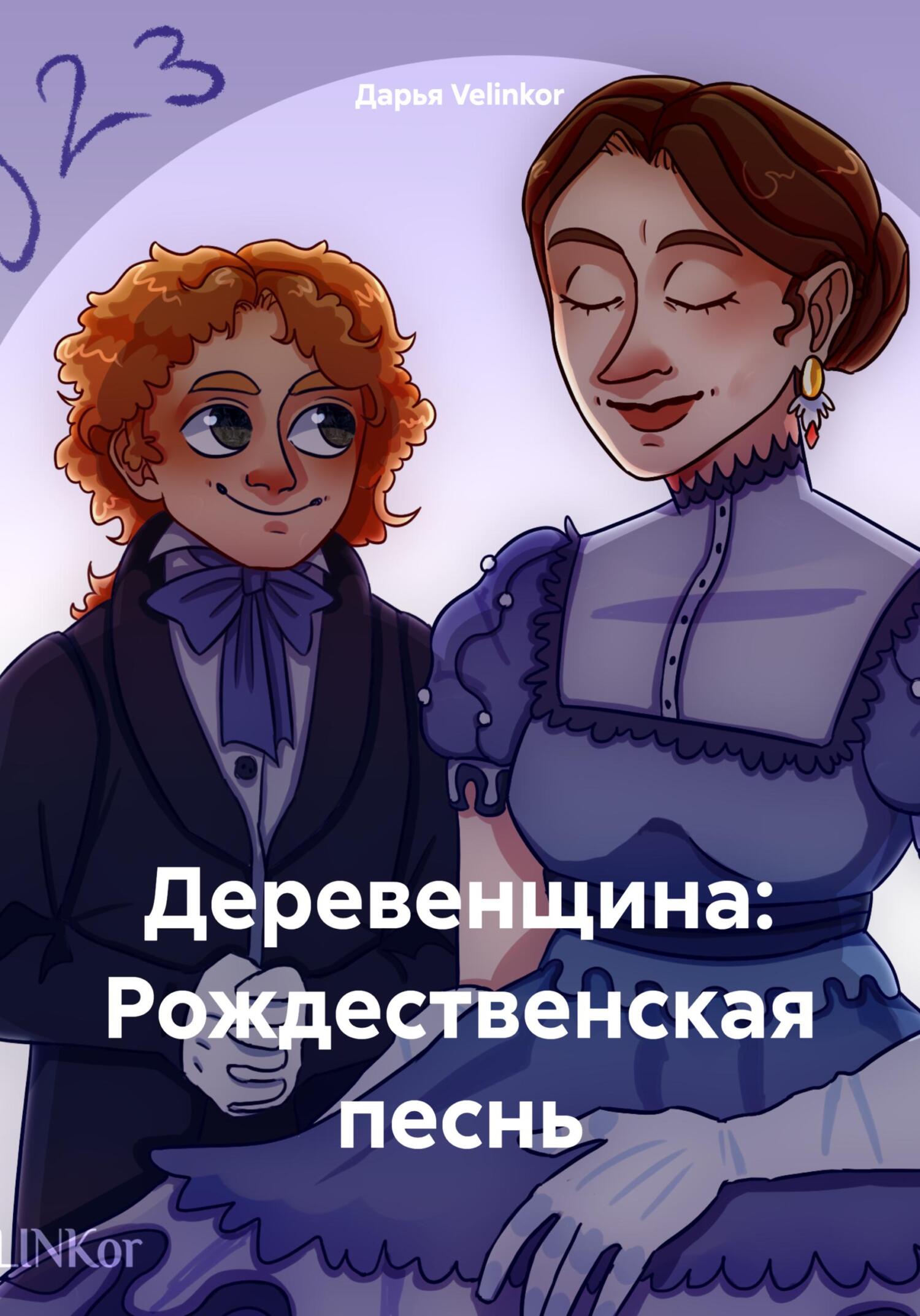не могла показаться? Кто их знает, этих женщин! Возможно, что она завтра же придет в Борн, завтра или послезавтра. Почему бы и нет? О, она наверное придет теперь, после того какой был у них! «Чем ты поручишься, Герман?» Герман готов был поручиться чем угодно.
Из кухни Бабетты неслись крики и смех, и, распахнув дверь, Герман остановился пораженный. Кухня была полна великолепным, неописуемо приятным запахом — запахом свежевыпеченного хлеба!
Все сидели при свете маленькой лампы вокруг стола и с каким-то детским, праздничным благоговением следили за возней Бабетты, медленно, с наслаждением жуя огромные ломти хлеба. На столе лежали три большие буханки с хрустящей коричневой корочкой. Одна из них была разрезана. Внезапно все умолкли, и в кухне воцарилась торжественная тишина: Бабетта вытащила из печи еще три хлеба! Они были почти черные, отливали синевой и дымились; облако горячего пара поднялось над ними.
— Так всегда бывает, когда болтаешь, — упрекнула себя^Бабетта. — Еще немножко — и они бы сгорели!
Карл, с черными очками на носу, выставил вперед небритый подбородок и жадно втянул носом запах пышущего жаром хлеба. Затем он протянул свои большие руки, осторожно ощупал один из хлебов, обвел его руками. Жар проник через его огрубевшую кожу, хлеб почти обжигал, но это было только приятно, и счастливая улыбка пробилась сквозь небритую щетину.
— Хлеб! — сказал он.
— Кто хочет еще кусочек? — спросила Бабетта. Она оглядывала всех, нож сверкал в ее руке. Бабетта казалась олицетворением щедрости. Да, прибавки хотели все. — Терпение! — сказала Бабетта. — Только терпение!
Как вкусен был этот хлеб! Он еще отдавал горячим летним солнцем, которое не поленилось прогреть со всех сторон каждый отдельный колос, чтобы он созрел. В мягкой корке чувствовалось еще дыхание теплого летнего ветра, обдававшего рожь ароматами, чтобы сделать ее более душистой. Никто не умел так печь хлеб, как Бабетта: она владела этим древним, великим, постепенно исчезающим искусством.
— Да, Бабетта, вот это действительно хлеб!
— Ну что тут особенного? Вы что ж, думали, я и хлеба печь не умею? — взвизгивала Бабетта, смущенная и довольная. Никогда еще не имела она такого успеха.
— Но какой хлеб! Хлеб хлебу рознь. — Они говорили только о хлебе. Все были в веселом настроении, словно их опьянил свежий хлеб и его запах.
Генсхен (наконец-то и ему представился случай блеснуть!) работал одно время на пароходах, объехал весь свет и перепробовал много сортов хлеба. Самый лучший хлеб, заявил он, пекут во Франции. Ах, что там за хлеб! Длинные бруски из чистой пшеничной муки; их попросту ломают руками. Что за хлеб! А в Китае, например, вообще нет хлеба, в Индии и Японии тоже нет.
— Вообще нет хлеба?
— Нет! Хлеба там нет. И скота нет — нет ни молока, ни масла, ни сыра. Один только рис.
— Нет хлеба? Нет скота? Нет молока! Нет масла? Что ты там плетешь? Как же они живут? — спросил Антон насмешливо.
Лицо Ганса приняло выражение снисходительного превосходства.
— А так вот и живут! — ответил он. — Поезжай туда, Антон, и убедись!
Ну, этого, разумеется, Антон сделать не мог — поехать в Индию и Китай, чтобы убедиться, что Генсхен, в виде исключения, на этот раз прав.
— Ну, расскажи же, Герман, что в городе? — с любопытством спросила Бабетта. — Как ты нашел Шпана?
— Шпана? — Герман пожал плечами. — Это конченый человек, Бабетта. Откровенно говоря, я не понимаю, что с ним.
— Что я тебе говорила? Конченый человек, это верно. А Христина?
Герман в замешательстве почесал затылок.
— С нею я совсем и не говорил.
— Ты с нею не говорил? — Бабетта разинула рот от изумления. Этого она не могла понять!
— Она выглянула в лавку и тотчас же ушла, чтобы позвать Шпана.
Этого Бабетта решительно не могла понять. Как так? Зачем же Христина то и дело бегала на гору и передавала приветы Герману?
Герман попытался оправдать Христину.
— Шпан сам говорит, что Христина сейчас не совсем здорова.
— Ну, так и есть! — закричала Бабетта, и лицо ее покрылось красными пятнами. — Он сведет ее с ума своими вечными проповедями. Он способен самого разумного человека свести с ума, этот Шпан! И больше ты ни с кем не говорил, Герман? — разочарованно спросила она. Неужели это все, что Герман может рассказать? Нет, больше он не говорил ни с кем. Хотя да, он вспомнил, что довольно долго беседовал с толстяком Бенно.
— Война, кажется, пошла ему только на пользу, — заметил Герман.
Бабетта рассмеялась.
— Жир он унаследовал от своей матери, — сказала она. — Его мать могла в один присест съесть целого гуся и миску клецок в придачу. Фаршированного гуся!
Фаршированного гуся и целую миску клецок в придачу! Здорово! Они сидели, облизываясь, все еще ощущая во рту вкус чудесной, хрустящей, почти черной хлебной корки. Этот вкус и мысль о фаршированном гусе, о котором говорила Бабетта, пробудили в них самые смелые и безрассудные желания, И они, успевшие уже отощать от здешней скудной пищи, стали рассказывать друг другу о прославленных обжорах, состязаниях в еде и роскошных пирах, про которые им доводилось слышать. Жареный молочный поросенок, целый котел сосисок, сковороды, наполненные жареными карпами, плавающими в сале… А Антон знавал одного медника, который однажды так обожрался, что его хватил удар.
Герман рылся в карманах, отыскивая деньги. Генсхен, умевший бегать быстрее всех, должен был отправиться вниз, в «Якорь», и принести кувшин пива. Это было уже похоже на праздник.
А завтра в Борн придет Христина!
10
Дул свежий ветер. Светило солнце, в первый раз с высоты была видна вся местность: в лучах осеннего солнца отсвечивали ржавчиной холмы, села и леса, окаймлявшие горизонт. В Хельзее поблескивали окна. Роща, высившаяся за кучей щебня, не казалась теперь грозной и неприветливой, как во время тумана; это был высокий, гостеприимный, приветливый лес; кое-где еще пламенели кроны буков, но густая, хотя и блеклая листва сохранилась только на дубах.
Работа среди развалин мирно шла своим чередом.
Герман был сегодня рассеян, временами он останавливался и внимательно смотрел на спуск с горы. Однажды он выпрямился и напряг зрение. По дороге поднималась девушка! Но нет, это была старуха, повязанная платком, с корзиной за плечами. Становилось все яснее, что он ручался напрасно.
Рыжий все еще продолжал резать тростник.
— Мне больше не надо камыша, слышишь, Рыжий! — сказал Герман. — Теперь мы будем резать ивовые прутья.
Они спустились вместе к ручью, где росли ивы. На Рыжем была старая ярко-зеленая шерстяная куртка, в которой он казался еще более толстым, круглым