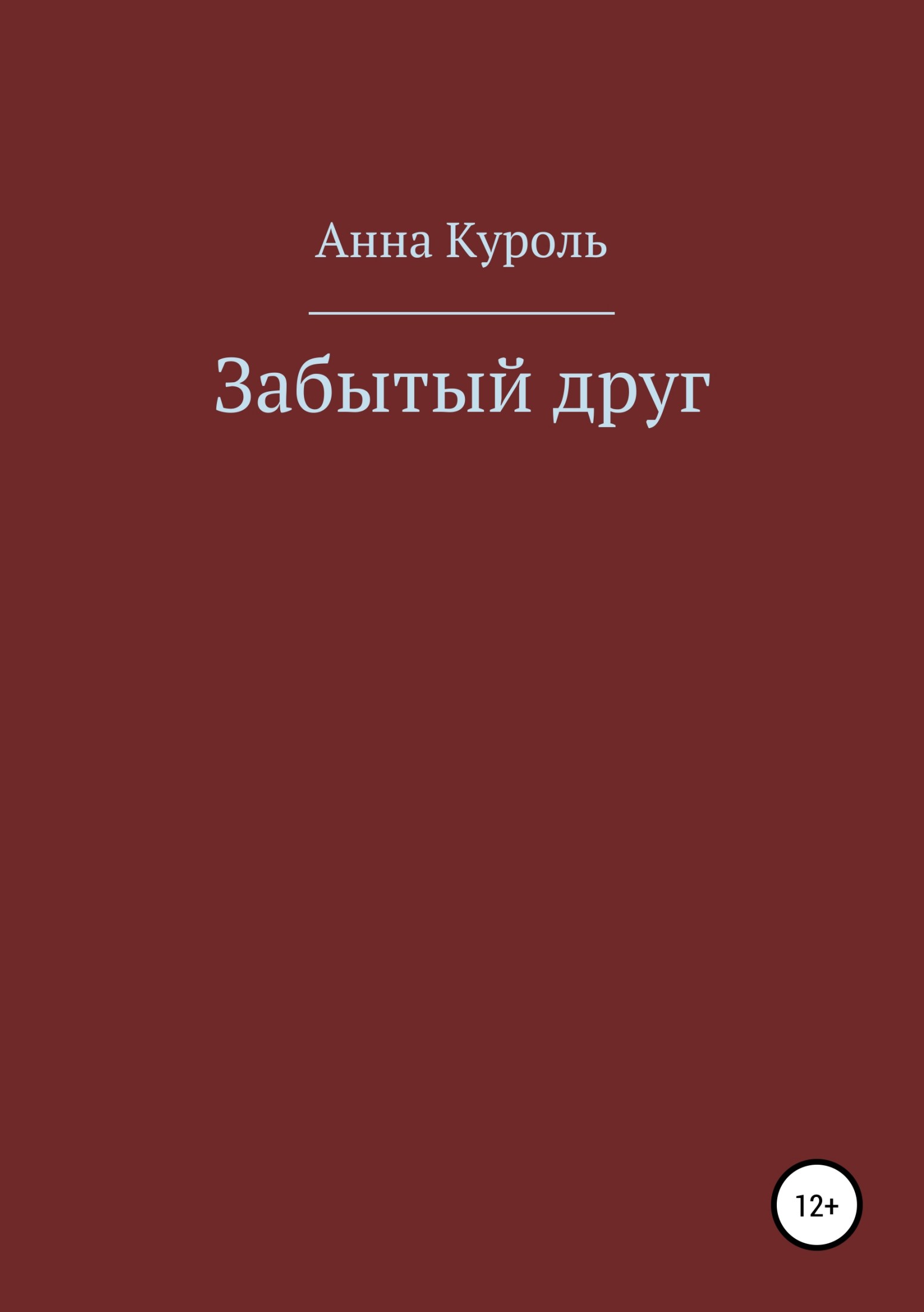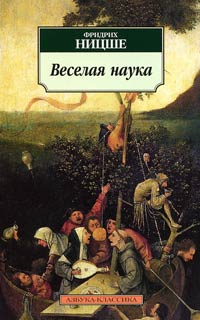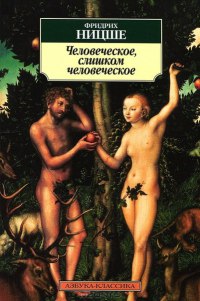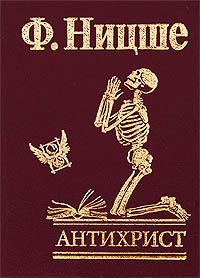class="p1">Две полки над доской, прибитой к стене, что отделяет кухню от спальни, на них продукты: жестянка с чаем, банки супа и фасоли, две бутылки молока, овсянка, хлеб, неплотно завернутый в бело-синее полотенце, картофель, брюква, капуста, сахар в сахарнице, фруктовый пирог в бело-зеленом полотенце, кусок запеченного в меду окорока на тарелке, жир поблескивает в вечернем свете.
Приют художника III
Свечи, спички, резиновые сапоги, ведро у двери; пальто и шляпа на двух крюках, прибитых к двери. Густая тень.
Приют художника IV
Краски, карандаши, уголь, бумага, коробки с красками, рюкзак и мольберт выстроились у стены от двери до края кровати. Смесь света и тени. Приют художника V
Кровать и две полки по обе стороны окна, аккуратно сложенная одежда, ровная стопка книг. Всё в тени.
Он все подписал своим именем, «Ллойд», и пошел наружу зарисовать фасад, рассохшуюся входную дверь, рассевшиеся оконные рамы, вспученный цемент, крышу из листового железа, птиц над головой — они парят и кружат на атлантических ветрах.
Джон Ханниган протестант, трое детей. Тридцать три года, управляющий кладбищем в Оме, графство Тирон. Резервист Полка обороны Ольстера.
Утром во вторник, девятнадцатого июня, Ханниган идет на работу. На часах половина восьмого. Останавливается в местной кондитерской лавке. Из оранжевого «фольксвагена» выходит боец ИРА, перехватывает Ханнигана у двери, дважды стреляет ему в голову и пять раз в грудь. Ханниган погибает на месте.
Массон постучал в дверь, приоткрыл, подошел с улыбкой, нагнулся ее поцеловать, взять за руку, погладить кожу в голубоватых венах, мягче и тоньше, чем прошлым летом: губы в улыбке обвисли сильнее, губы в морщинах нет зубов, чтобы их натянуть. Она махнула рукой, как бы коря за поцелуи.
Глупый француз, сказала она.
Он улыбнулся, чувствуя облегчение оттого, что она все еще здесь, в этом доме, в этом кресле, все такая же, какой он увидел ее впервые четыре года назад, пьет густой темный чай, курит обугленную глиняную трубку, возле стула стоит корзинка с вязаньем. Он снова похлопал ее по руке, расправил черную шаль у нее на плечах.
Как жизнь, Бан И Флойн?
Неплохо для моих лет.
А вы замечательно выглядите.
Вы тоже, Джей-Пи.
Он приготовил диктофон, достал из сумки блокноты, ручки. Налил две чашки чая. Она затянулась.
Гляжу, вы выставили англичанина на утесы.
Массон кивнул.
Да, для нас двоих деревня маловата, Бан И Флойн.
Два быка в поле.
Они подались друг другу навстречу и засмеялись.
Готовы начинать?
Она отложила трубку, прокашлялась. Он включил диктофон. Она заговорила — выговор у нее был гортаннее, чем у него.
Я уже старуха, телом слаба, но сильна памятью. Родилась я здесь, на этом острове, восемьдесят девять лет назад. Много прошло времени с моего рождения, мир совсем изменился. В чем-то стал лучше, в чем-то хуже. Мой отец был рыбаком, каждый день, кроме воскресенья, ходил в море, мама оставалась дома на берегу с другими женщинами — они, подоткнув юбки, собирали пищу, какую дарует нам Господь: моллюсков и водоросли на скалах и в море, а меня еще маленькой посылали карабкаться туда, куда маме было не добраться.
Он снова похлопал ее по руке, понуждая говорить дальше, уговаривая повторить всю историю снова, хотя она уже ему ее рассказывала три лета подряд.
Мужчины на острове по-прежнему ловят рыбу, а вот женщины и дети больше не ходят на берег, не собирают пищу, и это очень плохо, меня это очень печалит, потому что здесь много съедобного, водоросли и ракушки целительны, с ними на остров не проберется никакая болезнь. Только меня никто не слушает. Подумаешь, старуха. Бормочет себе что-то. Им больше нравится съездить с Михалом на лодке за шоколадом и пирожными, заплатить за уже приготовленную пищу, в которой полно соли и сахара, совсем не такую здоровую, как то, что предлагает остров. Еду нужно добывать трудом, Джей-Пи. Когда добываешь ее трудом, делаешься сильнее. По крайней мере, так оно по моим мыслям.
Она затянулась табаком, хлебнула чая, он снова похлопал ее по руке, улыбнулся, понуждая продолжать, хотя говорила она медленнее, чем раньше, дыхание стало короче, при вдохе слышался легкий хрип. Хрупкость. Ранее он ее не слышал. Нет ее на других записях. Он погладил руку старухи. Мне за вас тревожно, Бан И Флойн. Сердце не на месте. Хуже, чем если бы так дышала моя собственная бабушка. Собственная мама. Ибо я долгие месяцы вас искал, Бан И Флойн, выслеживал по всему западному берегу, из дома в дом, от острова к острову, и раз за разом слышал, что опоздал, что все эти женщины, все эти мужчины уже умерли, похоронены, а с ними и их язык, но вы еще здесь, Бан И Флойн, вы здесь всему наперекор, вы и ваша речь, вы отказываетесь становиться современной, приспосабливаться к нашествию англичан, отказываетесь сдабривать свой язык этим их чужим языком, делать вид, что идете в ногу со временем, ибо вы понимаете, что такое вы для языка, для острова, для меня: старая женщина как тотем, напоминающий нам о том, что утрачено, о том, какой жизнь была раньше.
Так вы слушаете меня, Джей-Пи?
Да, Бан И Флойн. Продолжайте.
Тогда не было лодок, чтобы что-то привозить и что-то увозить, почти все время мы жили сами по себе, довольствовались тем, что давали нам Бог, море и суша, и мне этого было предостаточно, я этим была счастлива, и не нужно мне было, как вот сейчас, оглядываться через плечо и смотреть, что к нам идет оттуда, гадать, как они там живут, — поле моего зрения было ограничено. Больше у меня ничего не было, и меня не тянуло к тому, о чем я ничего не знала, хотя со временем других отчаянно повлекло прочь отсюда. Мои собственные дети только и говорили что про Америку, с утра до ночи, вынь им ее да положь, хотя меня она не манила ни капли, Джей-Пи. Пока тут есть пища и место для отдыха, не вижу я смысла мотаться по всей земле в поисках других краев, где можно делать то же самое, хотя я и знаю, что в давние времена у здешних жителей не было выбора, уезжай или умирай с голоду, но мне повезло родиться в