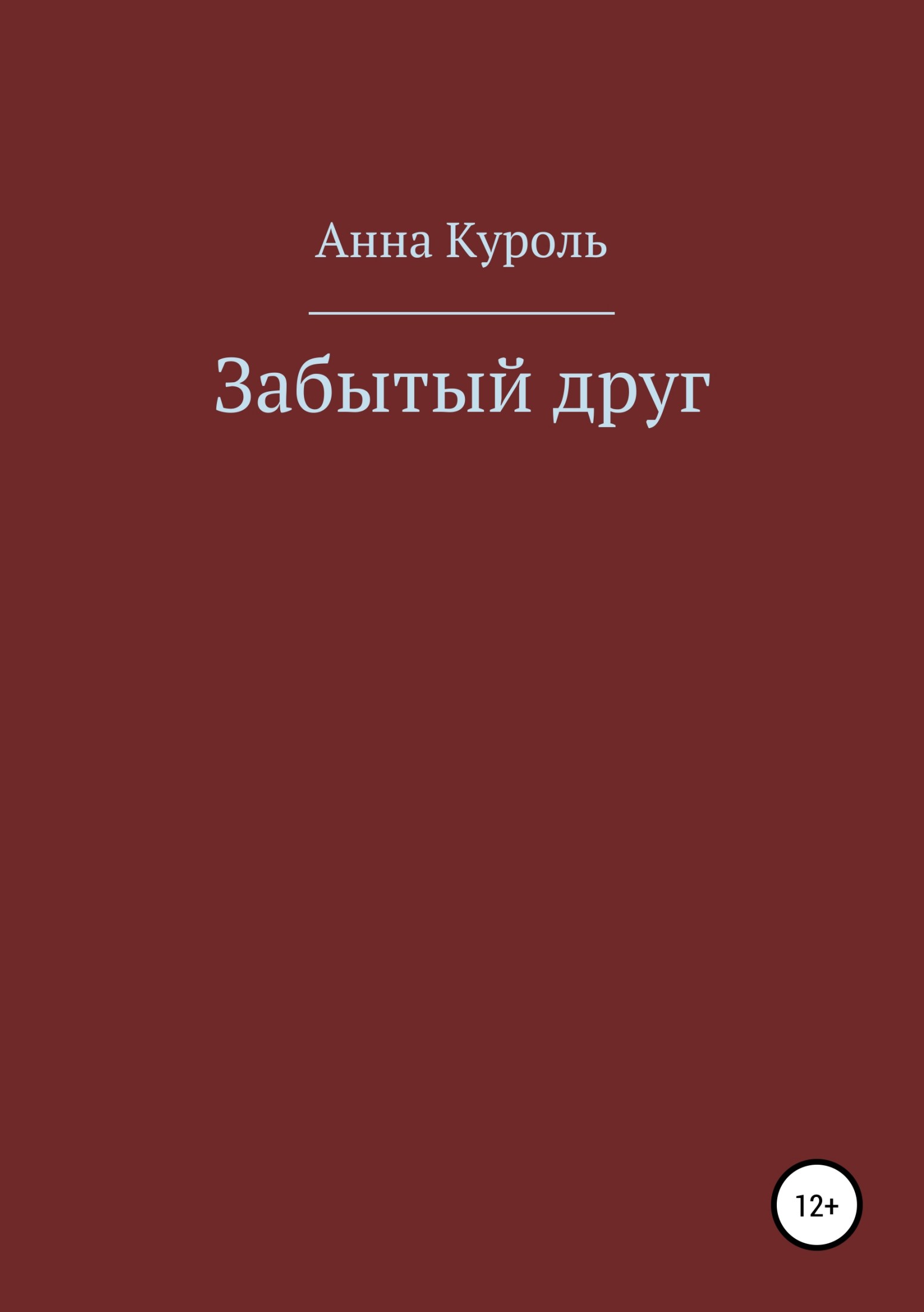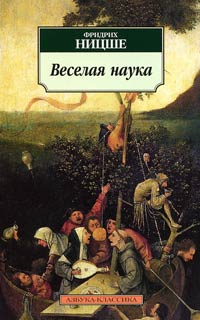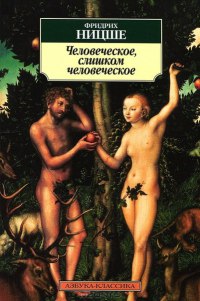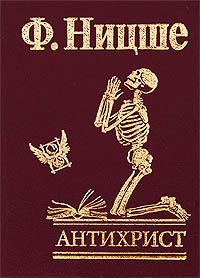другие времена, когда все это осталось в прошлом, нам хватало еды, хотя, скажу я, такой, что на ней не разжиреешь, но как по мне, так в жире нет ничего хорошего. Массон поднес к губам ее руку, поцеловал, вслушиваясь в сдвиги в ее речи, в синтаксисе, высматривая маркеры изменений интонации, огласовок, артикуляции, но ничего не нашел — историю свою она рассказывала так же, как и год назад, как в предыдущие годы, это никак не подрывает моих выводов касательно языковых паттернов на острове, моего диахронического анализа четырех поколений одной семьи, моего труда, который этот англичанин сведет на нет, если вы не перестанете ему препятствовать, Бан И Флойн. Этому англичанину. Вас я об одном прошу: сопротивляться его влиянию, его проискам еще два с половиной месяца. Тогда я все закончу, Бан И Флойн. Будут у меня книга, докторская степень, штатное место на факультете.
С вами все хорошо, Джей-Пи?
Да. Прекрасно. Продолжайте, пожалуйста, Бан И Флойн.
Она затянулась.
Вид у вас немного бледный, Джей-Пи.
Устал немного, вот и все. Рассказывайте дальше.
Я иногда спускаюсь на берег с правнуком, Джеймсом, подтыкаю юбку, как вот когда-то мама, хожу, собираю моллюсков по скалам, ополаскиваю в пресной воде и ем. Оно мне полезно — не только есть свежую еду, но еще и делать то, что делала моя мама, а до нее ее мама, и так много сотен лет. Мне это очень нравится. Связь с прошлым. Ощущаешь себя старше, чем ты есть на самом деле. И я чувствую себя не такой одинокой, Джей-Пи, не так меня пугает, что времени мне осталось мало, потому что не я веду, а меня ведут.
Он подлил еще чаю.
На том берегу я была всего три раза, один раз хоронила мать, другой отца, а в третий мужа. Рановато еще плыть туда снова. Ради мужа Айны не пришлось, потому что он утонул. Да вы это знаете, Джей-Пи. Трое хороших мужчин пропали в море в один осенний день. Мой зять, внук и муж внучки. Пропали. Домой не вернулись. Даже на собственные похороны. Тяжелый тогда был день, Джей-Пи.
Но как по мне, тяжелые дни, они везде бывают. Есть у них такая привычка — следовать за людьми. Вот только оправляться на острове дольше приходится. Сами представляете. Хуже всего было смотреть на Марейд, она ж с ребенком осталась. Четвертый месяц ему пошел. Муж погиб. Отец погиб. Брат погиб. Этакая святая троица. И заменить их нечем. Не будь ребенка, Джей-Пи, ее бы тоже не стало. Это правда истинная. Но Джеймс у нас славный паренек. Мать любит. И бабушку тоже. И меня. А его Господь любит. Всех нас любит.
Она перекрестилась. Он отпил чая.
Знаю, немного нас таких, которые и теперь согласны жить по-старому. Из моих детей только Айна, Бан И Нил, осталась на острове. И у нее теперь ни мужа, ни сына. Другие мои дети кто на дне — маленький Шимас, который свалился со скалы, да упокоит его милосердный Господь, — кто на этом свете, живут в Бостоне. Стали американцами. Крепости им не хватило для здешней жизни. Здесь, видите ли, Джей-Пи, жизнь суровая, не всякий вытянет. Знаю, она везде суровая, и в городе, и в деревне, но здесь ты будто бы без одежды, голышом перед нашей непогодой да безлюдьем. Многим такая простая жизнь не по нраву. Говорят, скучно, но я-то за ними наблюдала. Не скука это, Джей-Пи. Это страх. Их пугают незащищенность и нагота. Вот они и уезжают, заворачиваются в расписания, счета, отпуска и квартиры, в диваны, кухонные гарнитуры и занавески, в потребности и кредиты, чтобы замаскировать наготу существования. Спрятать незащищенность. Сделать существование приемлемым.
Терпимым. Вот только помогает ли? Может, и да, ведь из всей молодежи тут один Джеймс остался. Остальные уехали, сбежали, оставив только нас, иссохших беззубых стариков.
Он улыбнулся. Она продолжила.
В других местах, где есть деревья и где укрыться, убогость существования легче замаскировать, принарядить, чтобы выглядела покрасивее. Я же, знаете, их и сейчас вижу на острове: мечутся туда-сюда через море, думают, что там им будет лучше, а потом выясняют, что тоскуют по нашим краям. Вот только возвращаться положено победителями, с чем-нибудь таким, чего больше ни у кого нет: в новой шляпе, добротных ботинках, с животом потолще, в дорогих резиновых сапогах. Собственные мои дети тоже такими вернулись из Америки.
В попытке доказать, что уехали — и правильно сделали. А мы дураки, что остались. Полные чемоданы дорогих одежек, рассказы про то, где они побывали, с кем встречались; их не разубедишь, что за планету они держатся покрепче нашего, и ценности в них побольше. А ради чего? Если ради пищи и тепла, тогда я еще понимаю. Но по большей части это попытки сказать свое слово в мире, который едва откликнется, а то и не откликнется вовсе. Как будто обзавелся титулом — и стал человеком. Как будто машина или дом могут доказать твою значимость. Наверное, для кого-то так и есть. Мужчины считают, так можно приманивать женщин. Может, так, только что это за мужчины? И что это за женщины. Джей-Пи? Я всем говорю: благодари Бога за то, что имеешь, и перестань гоняться за все новыми побрякушками. Потому как тогда ты ничем не лучше сороки.
Он глянул на диктофон: сколько там еще осталось пленки, чтобы фиксировать ее речь, а заодно и ее образ мыслей, ее преданность родному языку. Как мне ее описать? Как им объяснить? Сказать профессору, что она стоик? Стоики бы вами гордились, Бан И Флойн. Сократу она бы тоже понравилась, беззубая старуха, сгорбившаяся у очага, где горит торф, хотя его быстро бы утомили жесткие рамки, в которые она загнала свое мышление. Диоген? Он восхитился бы бесхитростностью вашего бытия, Бан И Флойн, но возмутился бы приверженностью условностям, тогда как двум христианам, Августину и Фоме Аквинскому, с их иронией, быстро прискучила бы ваша безоглядная вера в Бога. Ницше бы, безусловно, ужаснуло рабское приятие подобного образа жизни — унаследованного от матери и от бабушки, а вот Шопенгауэр бы вами восхитился, Бан И Флойн. Ему по душе бы пришлось отвержение дешевого светского блеска, нежелание стать сорокой.
Он отключает запись.
Может, этим в Париже я скажу, что она типичная экзистенциалистка, Хайдеггер из Западной Ирландии, который сражается с технологическим прогрессом, с изменениями. Бан И Флойн и ее Dasein. Бан И Флойн, философ без лоска. Ее философия еще не заляпана