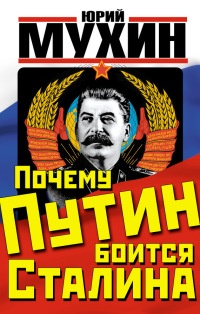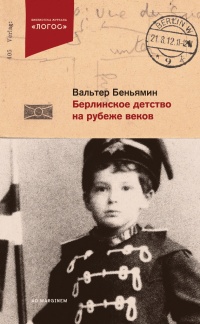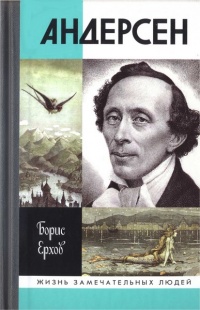4
«Интересно, когда придут за мной и как это случится?» – подумал Беньямин, закуривая. Он слышал леденящие душу истории – как кого-то разбудил среди ночи полицейский и отвел в поджидавшую на улице машину, а жена и дети стояли и смотрели, а другого забрали прямо из ресторана, едва ему успели подать еду. Он из первых рук знал, что одного человека схватили в полдень за игрой в шахматы в парке: беднягу без вещей затолкали в машину, оставив противника с недоигранной партией.
Переживет ли он сам такой удар, с его-то слабым здоровьем? Если за ним вот так внезапно нагрянут, у него, наверное, тут же остановится сердце. Он замертво рухнет прямо в объятия этих военных, и им придется порядком повозиться, чтобы похоронить его, и поделом им.
Читальный зал Национальной библиотеки за последний месяц все пустел. Стол, за которым обычно сидел он, походил теперь на беззубый рот. Для многих ученых-евреев этот восхитительный зал с его куполообразными сводами стал родным домом. Этих верных читателей – Соломона Вайзеля, Иосифа Вертхаймера, Салмана Полоцкого, Якоба Шпигеля и еще с десяток – почти всегда можно было застать здесь. Они корпели над увесистыми томами по истории Рима, аэродинамике, современной лингвистике, да по чему угодно. Беньямин хорошо знал всех их, они составляли молчаливую семью, и у каждого в алтаре его разума горела своя свеча. Чтобы свеча эта не гасла, каждый из них пошел на огромные жертвы.
Тем, кто не принадлежал к этому братству, трудно было понять, что может заставить человека по девять часов в день просиживать в библиотеке, исследуя малохоженые тропы человеческого знания, что за амбиции принуждают людей жертвовать семьей, дружбой, земными благами, просто уважением общества? Редко кого из этих ученых в конце пути академический мир удостоил золотой медали. Их не ждал громкий успех. Большинство книг, написанных в этом зале, никогда не найдут своего издателя, а если и найдут, то совсем немногочисленным будет круг их читателей. Чего же ради был этот неустанный труд?
Беньямин был, пожалуй, самым неутомимым из всех тружеников. День за днем он сидел на одном и том же стуле, сознательно отгораживаясь от всего, что не относилось к теме его работы, в том числе от нацистов. Он занимался исследованиями и писал свою книгу с конца двадцатых годов, когда она начала созревать в виде заметок и афоризмов. В коричневых папках набралось изрядное количество материалов. Он жалел, что так много записей оставил у Брехта в Дании, когда гостил у него летом два года назад. Шансов снова приехать в Данию становилось все меньше и меньше, а рассчитывать на то, что Брехт перешлет материалы Тедди Адорно, не приходилось. Брехт был ленив и равнодушен.
– Негодяй, но по-своему святой, – говорил Беньямин сестре Доре, на что она неизменно отвечала:
– Все выгоду ищут, Вальтер. Своего никто не упустит.
Беньямин был уверен (хоть никогда, даже самому себе, ничего такого не сказал бы), что его энциклопедический труд о парижских пассажах, сейчас уже почти законченный, мог бы оправдать его существование, ведь без этого произведения все свелось бы к начатым и неоконченным фрагментам, сотням озарений, трепетавших, как хрусткие листья на осеннем дереве, которые скоро сорвет ветер и унесет, как известно, на пресловутые четыре стороны. Вначале «Пассажи» пытались отвоевать себе место среди других работ, всегда оставаясь на заднем плане. Передний, ярко освещенный план Беньямин оставлял для чего-нибудь срочного: критической статьи, рецензии, которую нужно было написать к следующей неделе, очерка, иногда стихотворения. Полностью сосредоточиться на сочинении о пассажах он смог только суровой зимой 1934 года в комнате дешевого pensione[38] в Сан-Ремо – пустой, с белеными стенами, выходившей на серо-зеленое море. К этому времени жить в Германии еврею – да и, по правде говоря, любому человеку, имеющему совесть, – стало невозможно.
Беньямин считал себя защитником Просвещения. Его труд был личным вкладом в борьбу с фашизмом. В своем дневнике он напоминал себе о необходимости «расчищать поля там, где до сих пор царило одно безумие, продвигаться вперед, орудуя острым топором разума, не уклоняясь ни направо, ни налево, чтобы спастись от сумасшествия, которым манит первобытный лес». С редкой для него яростью он писал: «Всю землю время от времени нужно распахивать разумом, чтобы на ней что-то могло взойти; нужно вырубать сорные заросли заблуждений и мифов».