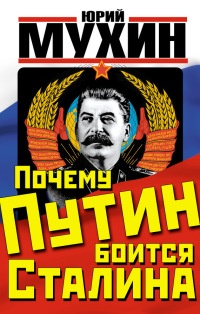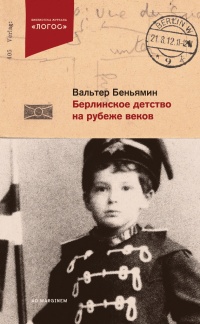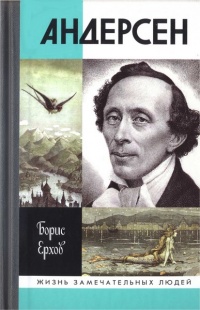Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
На многое из того, что здесь происходит, тяжело смотреть. Рядом со мной спит на полу, на совсем тонком, жестком тюфяке странная девушка Гизела. Кажется, нацисты у нее на глазах избивали прикладом винтовки отца, пока не пробили ему голову. Он так и умер на полу, на руках у жены. Мать Гизелы, которую тоже привезли сюда, была давно и неизлечимо больна раком. Кожа у нее стала смугло-желтой, как у мулатки, глаза ввалились глубоко в череп, словно шляпки старых забитых гвоздей. Каждый день после обеда несчастная женщина выходила на подкашивающихся ногах из барака и ложилась на грубое шерстяное одеяло, которое Гизела расстилала на земле. Вечерами она баюкала мать, глухим, тихим голосом напевая ей народные песни, которых я никогда раньше не слышала. Меня удивляло, что они не разговаривают друг с другом, – наверное, им было достаточно просто быть вместе. Может быть, сказать нужно было так много, что и начинать не стоило? А может, наоборот, они пережили такое горе и сейчас были в такой беде, что разговоры тут ничем помочь не могли. Так или иначе, несколько дней назад мать ее умерла. Я была там, рядом с ней, и видела, как она рассыпается, словно сожженный уголек: форма какое-то время сохраняется, потом разваливается, и остается лишь зола, которую развеет ветер.
Когда мать увозили, Гизела не плакала, не вымолвила ни слова. Лицо ее не выражало никаких чувств, слез не было, – должно быть, ее целиком поглотила пучина горя. Сегодня она – вернее, оставшаяся от нее оболочка – весь день просидела на своем тюфяке. Синие круги у нее под глазами, которых она почти не открывает, потемнели еще больше. Утром я попробовала заговорить с ней, предложила сигарету, но она не отвечала мне. Даже не кивнула, ни звука не издала. Я за нее побаиваюсь. Уж слишком много на нее свалилось.
Напротив меня расположилась на своем тюфяке напыщенная, но презабавная дама, ее зовут Или`. Вряд ли ты ее знаешь, но в Париже она везде мелькала, – кажется, она подруга Жюли Фарендо. Мне приходилось видеть ее среди гостей на многолюдных вечерах – ее меха и драгоценности сразу бросались в глаза. Она беспрерывно курила сигареты с длинным мундштуком из слоновой кости, выпуская кольца дыма. Тогда она меня раздражала, а сейчас – нет. Мне даже нравится ее практическая сметка и бравада. Побольше бы таких, как она, и мы выдюжим в этой войне.
Она рассказывала мне, что, когда нацисты запросто захватили Вену, они вытаскивали еврейских женщин на улицы и заставляли их на коленях чистить тротуары. Или`, в своих мехах и драгоценностях, в бешенстве выбежала на улицу и заорала на этих подонков. «А ну, давайте мне щетку! Быстро!» Ей отвечали: «Мадам, успокойтесь, вас это не касается. Возвращайтесь, откуда пришли». – «Я еврейка! – кричала она. – Несите щетку, или я буду жаловаться вашему начальству!» Они тихо ретировались. Ну не прелесть ли? Знаешь, они ведь трусы, эти фанатики фюрера. Только прячутся за своей формой.
Или` взяла с собой художественные принадлежности: краски, кисти, даже свернутые холсты – она вставляет их в рамы, которые ей, по-видимому, весьма охотно предоставляют охранницы. (Попросишь у них кусочек хлеба, они на тебя окрысятся, зато раму для картины – это пожалуйста!) На второй день нашего пребывания в Гюрсе она разбила свою походную мастерскую на лужайке и начала писать. Это был довольно эффектный жест, и вокруг нее, недоумевая и любопытствуя, собрались поглазеть люди. А теперь она еще и дает уроки! Думаю, бесполезно убеждать ее в том, что не искусством единым живет человек…
Но уж едой здешней точно не проживешь. Каждый день, снова и снова турецкий горох – сухой и безвкусный, как камешки, его приходится замачивать на ночь в ржавой воде, а потом целый час варить. Всего мы получаем по десять-пятнадцать горошин, этих противных дробинок. Потом долго пережевываешь их, пока не получится малоаппетитная каша, которую можно проглотить. По утрам охранницы приносят по чашке суррогатного кофе – такого отвратительного, что уже после первого глотка хочется блевать.
Иногда нам достается по резиновой морковке или порции слипшейся залежалой капусты. Картошка черная, заплесневелая. Буханки хлеба нарезают со скаредностью невероятной – одну на полдюжины женщин. Порции раздают утром, и нужно рассчитать, сколько съешь за один раз. Я стараюсь оттягивать время еды, пока голод не станет нестерпимым. Потом жду еще и ем, только когда он начинает ослабевать. Так, кажется, лучше всего, не знаю уж почему.
Умыться можно только утром, когда так холодно, что умываться совсем не хочется. Вдоль забора из колючей проволоки за бараком тянется длинный грязный желоб, а из трубы, проходящей параллельно забору, торчат похожие на соски краны. Те, у кого хватает отваги помыться в этот день, выстраиваются раздетыми перед умывальником и торопливо плещут на себя холодной водой, которая то едва капает, то хлещет вовсю. Как и все, я стараюсь заодно постирать одежду, но это не так просто. Мыла здесь не достать – хорошо, что я все-таки не забыла взять немного с собой. Когда оно кончится, мне останется, как и всем, просто тщательно тереть себя – или смириться с вонью.
Солдатам наружной охраны и часовым у КПП нравится пялиться на нас, когда мы моемся. Некоторых – из тех, кто помоложе, – это страшно смущает. Одна девушка лет семнадцати так стесняется, что вообще не снимает нижнего белья. Возраст, наверное: страх, что под любой крышкой окажется ящик Пандоры. Мне-то лично плевать. Пускай глазеют. Не все ли равно?
Вот ходить на публике в уборную мне не так легко. Отхожие места здесь представляют собой великолепные сооружения, напоминающие виселицы. Одно такое высится за нашим бараком, всего в нескольких шагах. Там нужно взобраться по шаткой лестнице на деревянный помост, водруженный на сваи. В полу вырезаны круглые дырки, а внизу подставлены железные емкости для сбора падающего дерьма и мочи. Их каждое утро опорожняют, и слава богу, – я ведь сплю у окна, которое выходит прямо туда!
Есть что-то германское в этой деловитости французских военных, и это пугает меня. Больше всего я боюсь окончательной оккупации. Представь себе: они проложили узкоколейку вдоль забора на задворках и по ней мимо каждой уборной проходит по расписанию маленький поезд. Испанцы, нанятые для выполнения грязной работы, каждое утро подъезжают на вагонах-платформах, чтобы забрать содержимое емкостей. Поезд, который мы называем «золотым экспрессом», громыхает от одной уборной к другой, а ведет его невозмутимый старичок с длинными седыми волосами и застывшими голубыми глазами. Бывает, работаешь, и вот подходит «экспресс», тогда зажимаешь нос и вглядываешься в поля за забором, где пологий склон сплошь усыпан одуванчиками, и достаточно слабого ветерка, чтобы сдуть с них весь пух.
Ганс, я пишу, чтобы не сойти с ума. Мне почему-то безмерно важно занести эти картины и мысли на бумагу, перевести (пусть совсем приблизительно) чувства в слова. Понимаешь, о чем я, дорогой?
Милый, я так тяжело переживаю разлуку с тобой, хоть я и верю, знаю, что у тебя все хорошо. У тебя всегда все хорошо. Если это, конечно, вообще возможно. Я и влюбилась в тебя, потому что всем своим существом чувствовала, уверена была в том, что ты несокрушим. Я вижу это, когда смотрю в твои глаза: ты – как алмаз, ты бессмертен. Можно сломить тело, но не твой дух. Это просто исключено, как Платону никогда не исчезнуть с интеллектуального небосвода Запада. Не все подлежит изменению.
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87