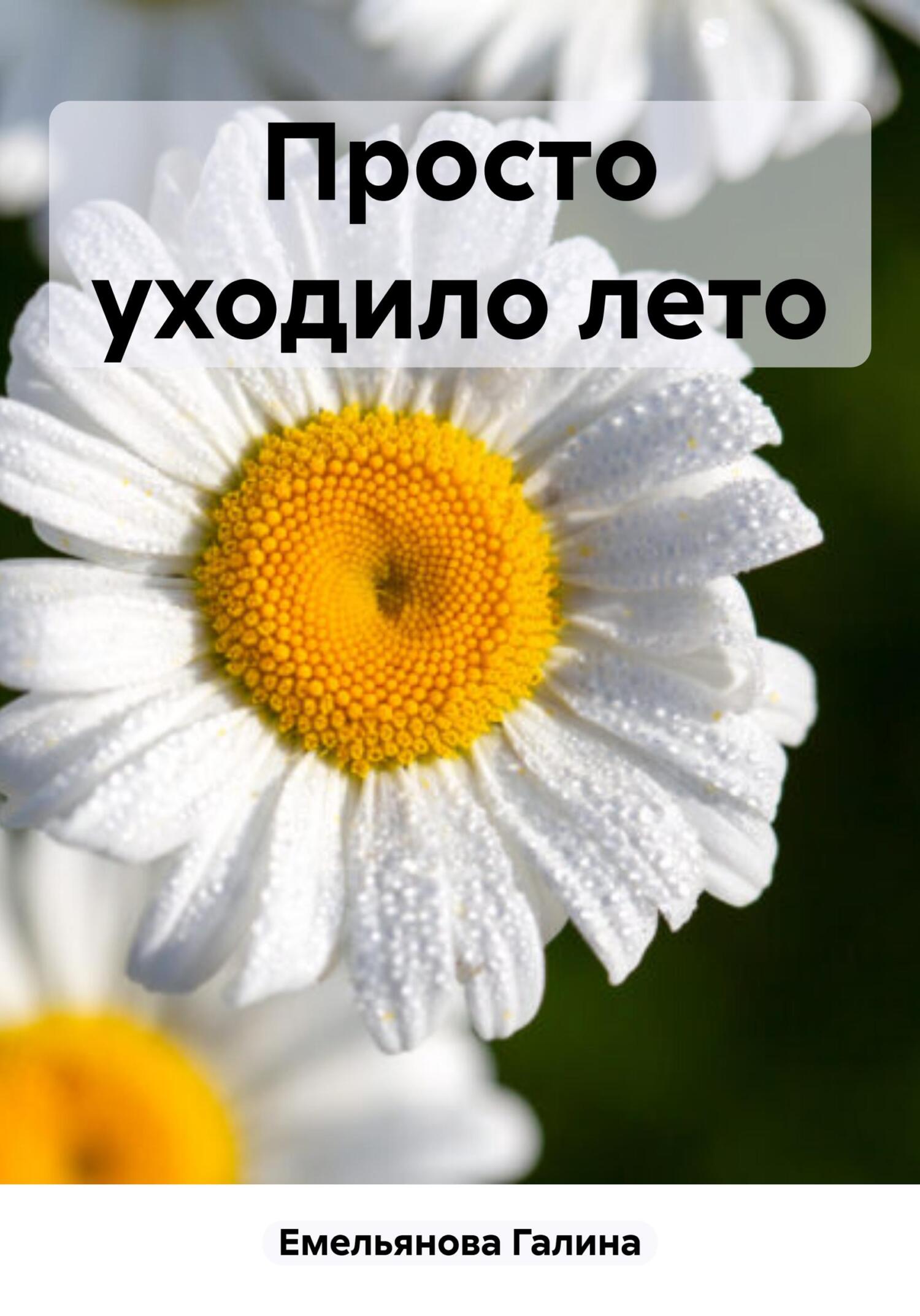один мне не люб. Не хочу так, лучше в набеге подохнуть, чем кажный год маяться стельной коровой. Не делай так, Олеська!
– Для тебя и делаю! – ощерилась Олеся. – Меня, верно, погубят Зимой, коли не брошу Чертог, тогда и тебе жизни не будет и мати. Затянулася твоя вольница! На рассвете ступай к Сиверу, прореки, ще решили. Думай до света, кого из племени хочешь в мужья, дабы при Сивере огласить, не то не поверит.
Олеся выждала, когда мимо пройдет свет прожектора, кинула Рите нож, поднялась и пошла в сторону леса. Рита с яростью схватила горшок и метнула вдогонку. Горшок разлетелся о древесный ствол, на сосновой коре осталось дымящееся пятно каши. Олеся так и ушла в лес, ни разу не обернувшись.
– Так и рви себе пузо на куёлду каку, дабы тебе кажный год двойню рожать, дабы ты в своей норе упласталася! – засипела ей в спину Рита. – Пущай лешак тебя сухосношит, коли вестою любо, язви тя в душу!
Со смертельной обидой Рита отвернулась от леса и снова поглядела на Монастырь. У неё и в мыслях не было думать ни о ком другом, кроме одного парня. Но не ходит он ни в одной Навьей стае: он там, за каменными стенами, где сыто, где тепло и спокойно, где каждый дом самосиянным светом наполнен. Наверное, он сейчас спит – сильный, добрый, красивый, к нему душа тянется, без него тоска, сердце мучается. И уйти к нему за монастырские стены нельзя. Как бросить семью, что и так носит клеймо отступников?
Рита закусила рукав, чтобы было не слышно, как она всхлипывает. Олеся нарочно оставила её одну, наверно, испытывает сколько в ней Совести и не сбежит ли она к крестианцам. Может быть Олеся прячется сейчас между деревьев и снова приглядывает? Сквозь слёзы прожектора казались Рите лучистыми солнцами. Краем глаза она заметила тень на равнине: может мерещится? Вот тень шелохнулась и потрусила в сторону леса, избегая света от Монастыря.
Рита сунула нож за пазуху, подобрала автомат и покралась тени наперерез. В животе разгорелось пламя новой и, наверно, последней охоты. Если остаток жизни придётся мыкаться вестой в норе, то сегодня она вдоволь потешится, насладится лёгкостью своего бега, вольным воздухом поздней ночи, надёжной тяжестью автомата и страхом последней пленённой добычи.
*************
Мертвецкая нисколько не напугала Егора. Прав был Серафим: «Своих покойников чего бояться?» Крещёные люди и после смерти чисты, а язычники, дай Бог, упырями не станут. Из подземелья выводил тайный ход: один из многих под старой Обителью. По узкому кирпичному тоннелю надо было идти, пригибаясь, тянулся он на добрых двести шагов и выводил за наружные стены. Когда-то Монастырь строился крепостью, а какая же крепость без тайного лаза? Егор подсвечивал себе путь фонарём, тоннель оканчивался ржавой дверью. Он потушил лампу, подналёг на железный створ и с усилием отпер. На пороге Егор прислушался: нет ли снаружи кого? Но нет, дышала безлунная ночь. Призрачно-жёлтые лучи света длинными рукавами тянулись до самого леса.
Он набрал воздуха в грудь, надёжно закрыл дверь за собой и как можно скорее поспешил к тёмным деревьям. Короткими перебежками, приникая к весенней траве, он миновал открытое поле. Должно быть ему повезло, снайперы на башнях не выстрелили, иначе наверняка бы поднялась тревога на стенах. Выбраться из Обители – дело опасное, но понятное, зато теперь перед ним стеной вздыбился нехоженый Навий лес.
Под могучими соснами и елями тишина ещё глубже. На первом же древесном стволе Егор разглядел знак Мара-Вий – предостережение людям, что здесь начинаются границы подземников, и любой, кто зайдёт в их владения, непременно раскается.
Егор мог защититься лишь увесистым кошелём, примотанным шнурком к запястью. Ударишь таким, то, пожалуй, можно и зашибить, но Егор взял кошель не для схватки. Он двинулся через лес мимо знаков, под ботинками зашуршала лесная подстилка и затрещали сучки́. Он без стеснения ломал ветви и даже корил себя, что оставил фонарик. Зачем ему красться, когда он сам ищет встречи? Главное не получить выстрел в спину, успеть сказать хотя бы два слова, найти того, кто сможет выслушать.
Время тянулось, ничего не случалось. Неужто за ним никто не следит? Невидно троп. Егор то и дело натыкается на плотный кустарник и поворачивает. В ночной темноте он не лучше слепого котёнка, хотя забрёл дальше любого из Волкодавов. Тишина обольщала. Будь хоть трижды уверенным, что остался с природой один на один, но сама природа как раз за тобой наблюдает. Ты чужак, ты выглядишь и пахнешь иначе, чем дети дождя, воздуха и земли. Пусть ты осторожен, но на первом же шаге нарушил неписанные порядки обитателей чащи. Древний лес уже поглотил тебя. Когда его дети немного привыкнут к твоему шуму и запаху, ты тоже превратишься в добычу.
Егор остановился и огляделся в поисках хотя бы намёка на засаду или погоню, но ничего: собственное дыхание и стрёкот сверчков. Он шагнул дальше, удар сзади повалил его на колени. Откуда-то за спиной оказался живой человек! Из памяти начисто вылетело, что он хотел заговорить первым. Руки скрутили, слова застряли где-то под кромкой ножа, прижатого к горлу.
– Я безоружен!
На голову натянули мешок, запястья перекрутили.
– Я из Монастыря! – лихорадочно пытался он объяснить. – Отведи меня к ведунье, я пришёл договориться! Там, на руке, кошелёк с серебром. Ради серебра вы грабите языческие караваны, вам нужно много, я могу дать!
Он частил и совсем не так убедительно, как надеялся. Из Егора потоком лилось всё, что рождал перепуганный ум. Страшно до дрожи, что прямо здесь и сейчас его просто зарежут. Врезали по лицу. Егор не ожидал тычка и свалился на землю.
– Не убивай! – застонал он с мешком на голове. Ледяное сердце упало в живот.