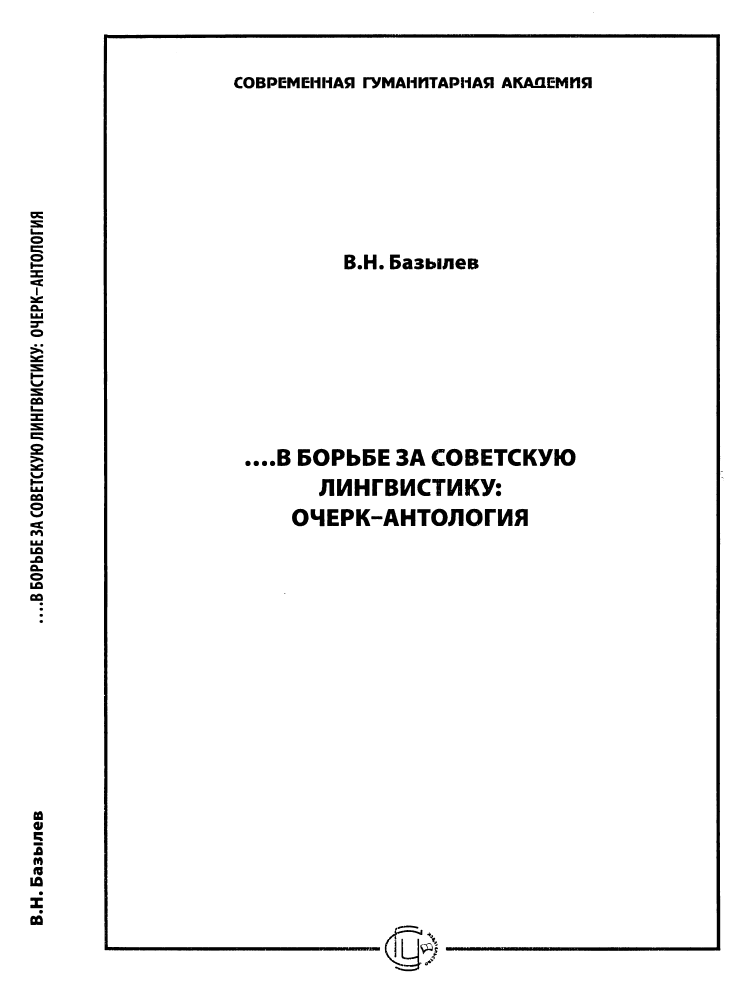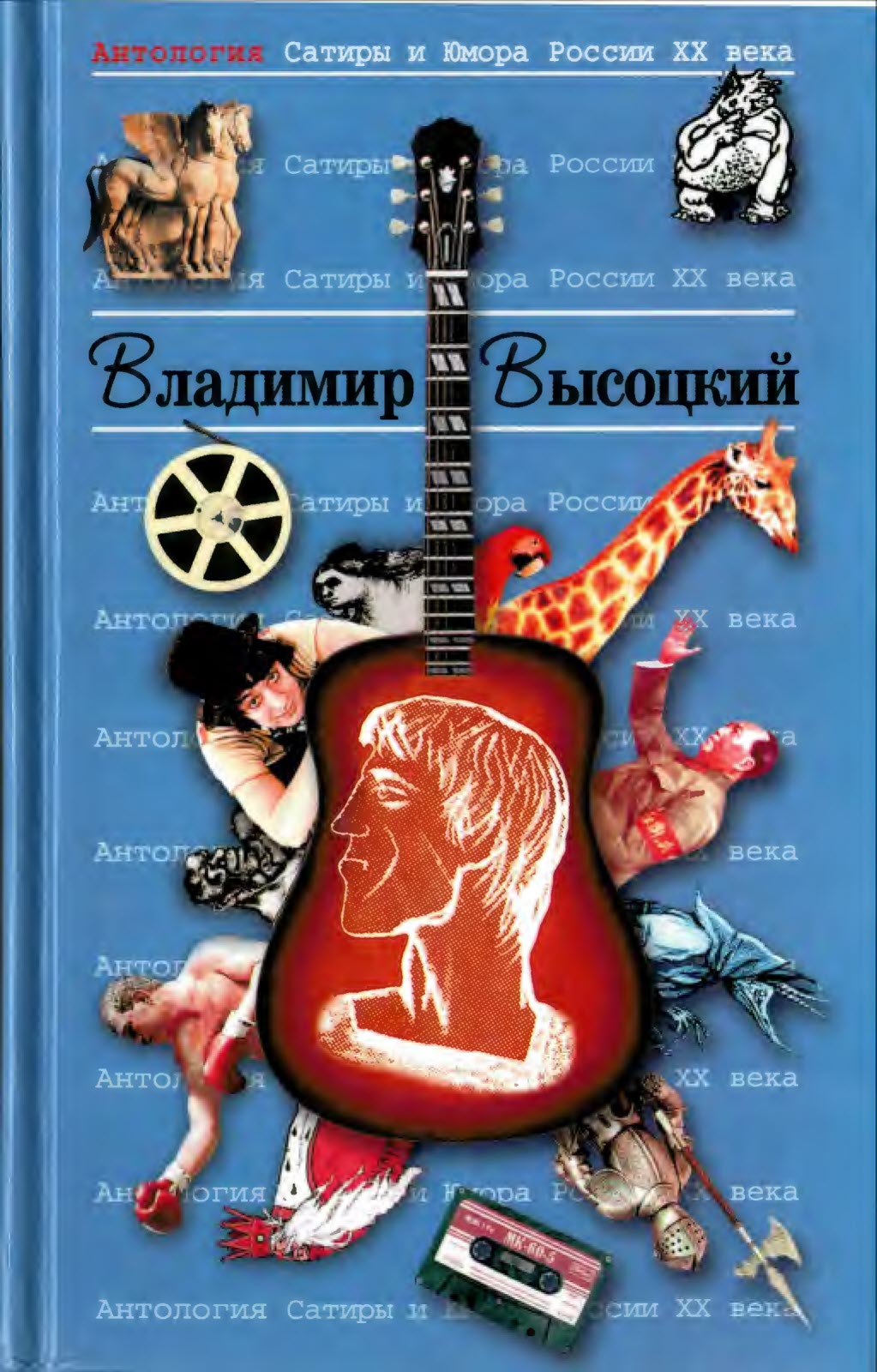зеленоватый цвет. Федор оглянулся – в противоположном окне облаков было больше, и все тяжелые, закатные. Ему вдруг почудилось, что в небе происходит нечто, чего люди не замечают и что подсмотрел только он…
Поезд повернул снова; далеко, у подножья гор показались белые с черным прямоугольники – не то деревня, не то городок. Федор бросался от двери к двери, стараясь запомнить, собрать сменяющиеся картины в одно целое. В мысли втолкнулось проявленное видом гор название книги Толстого «Люцерн». «Люцерн – это где-то в Швейцарии, по ту сторону хребта…» Альпийский ландшафт словно проявлял и его самого: тело стало ощутимым, легким, сильным, росло и ширилось чувство освобождения… Путешествие в страну неизвестности началось!
Вскоре за окнами замелькали плоские белые дома в коричневых полосах деревянных балконов. Подъехали к станции. На перроне толпились люди в зеленых охотничьих куртках, в шляпах с перьями; на некоторых были свитера в оленях и удивительно выглаженные натянутые брюки, заправленные в большие ботинки. Было много военных американцев. Федор, как и во Франкфурте, пытливо всматривался в этих рослых, розоволицых парней и снова радовался, что выбрал именно американскую зону. Вспомнив о спутниках-украинцах, вернулся в вагон. Там их не было. Подумал, что они вышли на перрон через другую площадку, но тут же заметил, что не было и вещей. «Сбежали, испугались», – обиженно подумал он, вспоминая женщину, «дай ему» и быстрый исподлобья взгляд мужчины, – мужская осторожность пересилила.
Федор вышел на перрон. Вокруг разговаривали, смеялись, но когда прислушался – не понял ни слова, хотя язык был несомненно немецкий. Из вокзального здания показалось двое зеленых полицейских с карабинами за плечами. Вид полицейских заставил насторожиться. Оглянулся, рядом стоял кондуктор.
– Скажите, пожалуйста, когда поезд отходит на Миттенвальд? – подошел к нему Федор.
– Через десять минут, – ответил тот, подозрительно, как показалось Федору, оглядывая его.
– О, тогда я успею еще закусить! – сказал Федор таким тоном, словно он отлично знал и Гармиш, и все, что было вокруг.
Он вернулся в вагон и выждав, пока мимо окон неторопливо прошагали полицейские, пошел по вагонам вперед, на ходу решая, сойти здесь или остаться в поезде. В первом вагоне было пусто: две парочки и у самой двери группа зеленых баварцев с трубками. Решил остаться.
Поезд тронулся. Снова вокруг успокаивающее движение, отрывающее от земли с ее пропусками, полицейскими, случайностями. Стук колес, говор пассажиров, пыхтенье паровоза убаюкивали, разговаривали с Федором в разнообразных, сменяющихся по желанию ритмах – то четыре шестнадцатых, то одна, переходящая в четверть. За окном плыли горы, белые домики в вылезших сквозь стены стропилах, с камнями на плоских крышах. Недавнего восторга, однако, не было, все было словно уже знакомо. Долго рассматривал карту. Два миллиметра между точками – Гармиш и Миттенвальд – казались решающими. Южнее проходила граница, и это тревожило: граница для Федора означала погранполосу, пропуска, проверки. Успокаивала справка в кармане и то, что Кёльн был далеко – поди, проверь!
К Миттенвальду подъехали в тумане. Городишко лежал в котловине. Земля за крышами домов уходила вверх, в туман. В серой сырости привокзальной площади пассажиры скоро растаяли, Федор остался один. Почему, собственно, он не сошел в Гармише – многолюдном и солнечном?
Из-за угла выплыла фигура в пелерине, с лицом Ницше под острой шляпой. Федор спросил о лагере…
Не чужой я
Нет, не чужой я!
Ни этой баварской осени,
Ни этой альпийской дали,
Ни этим готическим городам
С красными острыми крышами,
В еще свежих развалинах.
Вчера были
Дремучие леса России,
Поля без конца и края,
Убогие деревушки,
Громадины новых заводов,
И та же печальная песня.
Завтра будут равнины Франции,
Бульвары Парижа
В опадающем золоте каштанов,
Завтра увижу смуглянок Италии,
Голубую даль Адриатики,
Каналы Венеции, солнце Сицилии
– И это мне не чужое!
И ты, далекая могучая Америка,
Твои индустриальные ландшафты,
Нивы твои в жуках-тракторах,
Ленты твоих автострад,
Электричество Бродвея…
– И ты не чужая!
Глупые люди
Хотят меня убедить
В ненужности,
Но как жалки их аргументы
Перед любимым лицом Земли —
Моей больной матери.
Перед атакой
Если меня сейчас убьют —
Дорогу атаке уже мостят орудия, —
Чье имя последних секунд
Словом последним будет?
Вам, кто вошел когда-то в меня
Сквозь радужные ворота моего «люблю»,
Кто сохранил теплоту моих рук,
Ласк моих нежных и грубых.
Вам, кто память чтит обо мне
За книгой, прогулкой, в объятьях супруга ли,
В сумерек час ли, в тоске беспричинной,
Кто ищет возлюбленных,
Образом схожих, —
Вам, только Вам слово то будет!
Если меня сейчас убьют —
Атака привстала, ракетой выгнув шею, —
Последним желаньем последних минут
Что на земле пожалею?
Вас, небеса, под которыми я не лежал,
Вас, города, которых еще не видел,
Вас, народы, говора которых не слышал,
Звери, которых еще не ласкал,
Цветы, которых не целовал,
Вас, книги, еще не прочитанные,
Книги, еще не написанные,
Вас, о женщины, которых любить не успел!
Но больше всего пожалею
О милой старой Земле,
Которая станет такой прекрасной
После другой, последней войны.
Ах, я не знаю – есть ли мир загробный,
Хотел бы я только в братской могиле
Всегда, как по радио, слушать
Вечерний выпуск последних известий.
Горсть пыли
Горсть пыли с дороги
Лежит у меня на ладони,
Серый порошок грязи,
То, что было землей, —
То, что будет землей, —
Образ твой, эмиграция!
И всё в этой пыли:
Прах умерших людей,
И прах городов,
И кровь былых сражений,
И отбросы и нечистоты,
И грязь дорог,
И усталость спутника,
И лучи солнца,
И жизнь хлеба,
И будущие люди.
И сам я чувствую в себе
Жизнь,
Которую дала эта пыль,
Жизнь,
Которая скоро станет
Такой же пылью.
Горсть пыли у меня на ладони —
Земля,