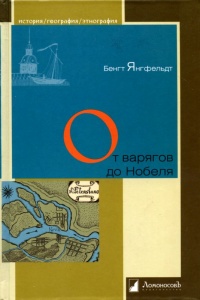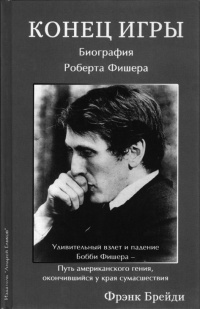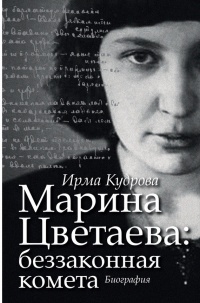Эмануэль же более всего тревожился за нефтяную компанию в России. Альфред оставался крупнейшим акционером. Если весь его портфель акций придется продать для создания грандиозного премиального фонда, контроль над компанией окажется в опасности. С другой стороны, ему никогда бы не пришло в голову воспротивиться последней воле дяди Альфреда.
Рагнар и Эмануэль вместе сели в поезд, чтобы ехать в Стокгольм. Они хорошо ладили между собой, во многом похожие, отличавшиеся корректностью и дружелюбием. Эмануэль заверил Рагнара, что на его личную дружбу тот всегда может рассчитывать, даже если в работе по выполнению последней воли Альфреда возникнет напряженность. Он призывал Рагнара повысить уровень и выбирать во время предстоящих поездок по Европе дорогие отели. Он обосновывал это тем, что представитель семейства Нобель не должен держаться слишком просто. Они расстались во взаимных уверениях, что необходимо решить дело «дружеским образом»6.
За несколько дней до похорон в Стокгольме Рагнар Сульман впервые встретился со вторым душеприказчиком. Рудольф Лильеквист оказался значительно старше Рагнара и куда более напористым в разговоре и деловых отношениях. Побеседовав немного, оба пришли к выводу, что им не обойтись без юриста самого высокого уровня. Они отправились к Карлу Линдхагену, асессору апелляционного суда, проживавшему на Валхаллавеген. 36-летнего юриста приход душеприказчиков привел в полное изумление, однако он не колебался ни секунды. Оглядев квартиру, Рагнар и Рудольф спросили, не будет ли он возражать против проведения телефона. Вдохновленный Карл Линдхаген отправился в книжную лавку и заказал себе толстый свод французских законов7.
* * *
29 декабря[61], когда Альфреда Нобеля провожали в последний путь, широкая общественность по-прежнему не подозревала о содержании его завещания. В газетах появились отрывочные слухи о большом пожертвовании на науку, однако почти все считали само собой разумеющимся, что на племянников прольется золотой дождь. Напоминание инженера Андре об обещанной поддержке нового полета на воздушном шаре к Северному полюсу тоже раз за разом мелькало на страницах газет.
Кафедральный собор Стокгольма, увитый пальмовыми и лавровыми листьями, «превратился в цветочный сад на южный манер», писала одна из газет. Проходы между скамьями окаймляли кипарисы, а у алтаря теснились ландыши, тюльпаны и гиацинты. Голубь мира парил над гробом, убранным черным крепом. Насчитали более ста венков.
Великолепие этого зрелища дополняло море ароматов. Только сорок поникших цветочных композиций, приехавших из Сан-Ремо, в том числе последний привет от динамитной компании, выделялись «унылым запахом тлена». На поблекших лентах виднелись надписи золотом и серебром «на самых разных языках». От бесчисленных люстр церковь буквально сияла.
Общественность часами стояла в очереди в надежде попасть на немногочисленные незарезервированные места. По мере приближения назначенного времени – три часа пополудни – окружающие кварталы все больше заполнялись собравшимся народом, началась давка. Вдоль тротуаров сверкали шлемы полицейских.
Счастливчики, которым удалось проникнуть внутрь, слышали, как пастор в своей надгробной речи назвал Альфреда Нобеля «одним из величайших сынов нашей страны». Оперный певец спел «Реквием» Верди, и, судя по пересказам в газетах, в заключение, прежде чем на крышку гроба упали три ритуальные горсти земли, «слова утешения были обращены к братьям покойного». Газетчики в очередной раз перепутали, кто же из семейства Нобель жив, а кто умер.
Народ столпился у церкви и стоял, пока выносили гроб – под звон колоколов и звучание органа. Плотные ряды горожан стояли по обе стороны улицы на всем пути процессии до заставы Норртуль. Оттуда экипаж сопровождали наездники с факелами в руках. Аллея из больших свечей освещала дорогу до крематория на Северном кладбище. Предполагалось тщательно соблюсти все инструкции в завещании. И последнее, но не менее важное: после операции с сонной артерией Альфред пожелал, чтобы «после того как это произойдет и явные признаки смерти подтверждены компетентным врачом, сжечь тело в так называемой печи крематория»8.
* * *
Первой новость о премии сообщила газета Nya Dagligt Allehanda. Эмануэль Нобель сильно рассердился, прочтя в газете полный текст завещания уже 2 января, перед тем как отправиться в Санкт-Петербург. Досадовал и Рагнар Сульман. Все участники процесса нуждались в более длительном периоде молчания. Они даже не успели поискать дополнительную информацию среди бумаг Альфреда в Сан-Ремо и Париже. Народ же в целом больше удивлялся тому, что эта большая новость не попала на первую полосу Aftonbladet. Главный редактор Харальд Сульман приходился братом одному из душеприказчиков и наверняка располагал полной информацией.
Текст произвел эффект разорвавшейся бомбы. Размер пожертвования оказался за пределом восприятия для большинства читателей, следивших за его оценками по публикациям в прессе. Общее состояние Альфреда Нобеля оценивалось в 35–50 млн крон. Из них девять десятых должны перейти в фонд будущих Нобелевских премий. Назывались разные цифры, и наконец прозвучали головокружительные суммы: 150 000–200 000 крон на каждого лауреата, что соответствовало средней зарплате профессора за 20 лет. По некоторым подсчетам это означало, что каждая отдельная Нобелевская премия вдвое больше годового премиального бюджета Французской академии.
«Самый величественный жест, когда-либо сделанный частным лицом для поддержки культурного и научного развития человечества», – заявила Svenska Dagbladet. Газета перебросила мостик к Олимпийским играм, которые возродились в Афинах в виде международных спортивных состязаний летом предыдущего года. Нобелевские премии призваны стать ежегодными олимпийскими играми для «всего самого выдающегося из произведенного человеческим разумом», – писала газета9.
Ей вторила газета Dagens Nyheter: «Более прекрасного памятника, чем тот, что воздвиг себе Альфред Нобель этим завещанием, ни один человек после себя не оставлял». Однако DN обратилась также с предупреждением к тем, кто будет выбирать лауреатов. Благородная задача предъявляла высокие требования к разуму, суждению и беспристрастности. Интриги и клановость в таком деле недопустимы. «В обоих этих отношениях Альфред Нобель выступал человеком требовательным, особенно в последнем пункте», – писала DN, ставя под сомнение компетентность Шведской академии и ее способность выполнить возложенную на нее миссию. Может быть, Альфред Нобель имел в виду какую-то другую «Академию в Стокгольме»?10
Недавно избранный член риксдага от Социал-демократической партии Яльмар Брантинг высказался еще более прямо. Он счел, что Шведскую академию нельзя воспринимать всерьез. «Старообразное сборище пасторов и прозелитов, ежегодно становящееся посмешищем стокгольмцев… пожалуй, самое некомпетентное сообщество, какое можно найти для ежегодного решения судьбы гигантской премии в 200 000 крон величайшему автору европейской литературы!» – писал он в своей газете Socialdemokraten. Брантинг скептически отнесся к идее премии как таковой. Свой текст он озаглавил «Величественные благие намерения – великая ошибка» и напоминал, что огромное состояние Нобеля на самом деле это «плод беспрестанной работы масс» и потому по праву принадлежит работникам заводов Нобеля. Если же говорить о прогрессе в обществе и человеческой пользе, то социальные реформы куда важнее. «Миллионер, делающий пожертвования, заслуживает всяческих похвал, однако лучше бы не было ни миллионов, ни пожертвований», – писал Брантинг11.