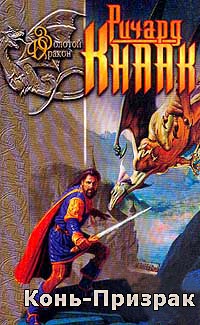- Не буду скрывать, где-то глубоко в душе я надеялся, что ты сломала себе по дороге шею и сдохла, - пожимаю плечами.
- Это сейчас было грубо, Аарон, - фигура в розовом приближается. Неспешно, не торопясь, плавно, словно красуется. Я вижу на узких плечах ту же сетку, что давит на мои крылья, на марионетке она видна отчетливее, срываются с болотно-тошнотного шлейфа маслянистые капли. Только вопреки законам физики падают не вниз, а вверх, растворяются в воздухе.
- Зато честно. Не хочешь облегчить нам обоим жизнь и сдохнуть самостоятельно? Я ведь сделаю тебе действительно больно…
- Самоуверенный темный, - тянет она надменно. Говорит громко, потому что все еще достаточно далеко от меня. – Ты ничего не сможешь.
- Да? А вот твое тело, кажется, считает иначе, - я щелкаю пальцами, ломая все ту же ногу трупа, но уже в другом месте, и удовлетворенно замечаю, как дергается Кукла. – Мы с ним знатно развлеклись, пока ждали тебя.
Краем глаза я замечаю какое-то движение слева – наверняка кто-то из служителей – и выпускаю немного ада. Он стягивается по периметру, вырастает барьером. Только людей мне тут не хватало для полноты ощущений. Не приведи Господи еще молиться начнут и святой водой поливать.
Кукла пережидает мгновение, растягивает губы в тонкую, широкую улыбку и смеется. Ее смех такой же тяжелый, как и голос. И обрывается он так же резко, как и начался.
Кукла застывает на мгновение, а потом кидается ко мне, меняясь в миг: плотнее стягивается вкруг болотно-тошнотная муть, становится более реальной, тугой, вытягивается тело, хрустят кости, рвется кожа. Что-то чвакает, хлюпает.
С ног меня сшибает огромная собака, странным образом сумевшая сохранить человеческие черты лица: сквозь коричнево-зеленую жижу виднеется часть розовой скулы, карие человеческие глаза, с нечеловеческим бешенством на дне.
Вот так.
Я не особенно сопротивляюсь удару, не стараюсь прикрыться или увернуться. Меня спиной вмазывает в дверь, протаскивает дальше. Тварь скалится и целится в горло. Мои руки вязнут в
липкой мути – теле уродца. В ней мало что напоминает главную гончую. Та была черной, как ад, больше и одновременно и сильнее, и слабее того, что сейчас давит сверху.
- Моя очередь развлекаться, темный, - рычит она мне в лицо.
Очень страшно. Ага. Проникся, прочувствовал.
Я отшвыриваю Ховринку от себя, поднимаюсь на ноги, отбрасываю тело Алины к другой стене, туда, где в ковчеге лежит гвоздь, разминаю шею.
Ну что? Понеслась?
Тварь вмазывается спиной в стену с такой силой, что по кладке ползут трещины, мелкая крошка с тихим стуком сыпется на пол, тело Ховринки оставляет после себя липкий влажный след.
Плохо, в мои планы не входит разнос Знаменского, а значит, нужно быть аккуратнее.
Я отступаю на шаг, наблюдая за тем, как гончая тут же вскакивает, мотает башкой и снова бросается на меня. Из открытой пасти на пол стекает мутной, вонючей нитью буро-коричневая слюна, с ошметками чего-то мелкого и желтушного внутри. Под кожей заметно какое-то копошение, шевеление.
Я отступаю еще на шаг, и еще, снова и снова. Тяну время, пробую понять, есть ли под ворохом всей это дряни, душа Куклы, осталось ли от нее еще хоть что-то, и можно ли ее отделить.
Клацают звучно и гулко когти, гончая выгибает спину, почти касается подбородком пола, готовится к очередному прыжку, пока я копаюсь в ее нутре, пробуя рассмотреть то, чего, скорее всего, давно уже нет. Интересно, Игорь тоже был марионеткой, или она сожрала его, потому что смотритель посмел прийти в Амбреллу? Еще и Элисте привел.
Черт!
Я отскакиваю, стараясь ничего не задеть, особенно кандила со свечами – пожар так себе идея – и готовлюсь перехватить пса, стягивая вокруг него сеть. Ад гончей, таким какой он должен быть, почти не заметен внутри сути Ховринки, и все же какие-то его крупицы, какая-то часть собаки еще жива. Отзывается, откликается чуть ли не с готовностью…
Интересно…
Похоже, гончей не особенно нравится подчиняться эгрегору, растворятся в нем, служить. Что-то там все-таки еще осталось от ведущего пса, что продолжает сопротивляться. А вот души Куклы я не чувствую. Никакого намека, ни малейшего отголоска.
Кем она была? И как вляпалась во все это?
- Что же ты убегаешь, падший? - рычит дрянь.
- Ты себя в зеркало видела? – спрашиваю, отходя еще на несколько шагов. – Собственный запах чувствуешь? Кстати, ты все-таки он или она? Может быть… оно?
Тварь только снова рычит и скалится, отталкивается задними лапами от пола, неповоротливое, уродливое тело из слизи взвивается в воздух. И я сжимаю кулак, дергая, сжимаю удавку. Пес валится вниз, крошит под собой пол, сучит лапами, почти так же, как делало ее тело до этого, хрипит надсадно.
- Ты зря со мной связалась, - цежу сквозь зубы, запуская руку твари в брюхо почти по локоть. Там, скопился и собрался под острыми, толстыми ребрами ад, отозвавшийся на мой зов.
Гончая визжит и хрипит, дергается, пробует вцепиться в меня зубами.
- Лежать, сука, - бросаю, выдергивая из тела кусок… чего-то вместе с пеплом ада. Неплохо было бы добраться до сердца и вытащить его, но я не уверен, что оно есть у твари. Кажется, что у нее вообще нет органов, что она вся состоит из личинок и червей. Они вываливаются из дыры рисовыми зернами и тут же покрываются коричнево-зеленой дрянью.
Кровь? Мясо? Что это вообще такое?
Я отвлекаюсь на миг на все еще продолжающих вываливаться из брюха пса червей, и этого времени гончей хватает, чтобы вывернуться из пут и все-таки вцепиться мне в предплечье. Клыки входят глубоко, челюсти сжимаются намертво.
Моя очередь рычать и крыть суку матом.
Я хватаю ее за горло, сжимаю пальцы до побелевших костяшек, кончики проваливаются, продавливают рыхлую плоть, брызжет в стороны вонючая, липкая слизь, вот только пасть раскрывать собака не торопится.
Дергается, посылая тело в короткий резкий рывок, и наваливается, наседает сверху, от вони слезятся глаза..
Я изворачиваюсь, отпускаю горло. Гончая все-таки валит меня на пол. Падение неудачное, за спиной слышится хруст, спину пронзает боль.
- Что, теперь не такой самодовольный, падший? – огрызается Ховринка, подаваясь вперед.
И я успеваю всадить ей в глазницу палец, и откатиться, пока она скулит и хрипит от боли. Сука оставляет за собой следы. Скользкие, вонючие. Сильнее шипит на ее теле свет, но и сильнее тлеют мои перья.
Нам не место здесь, нам обоим. Раненную руку немного дергает, крови много, и теперь я понимаю, что Ковалевского Кукла еще пожалела. Ей ничего не стоило перегрызть ему горло. Так почему не стала? Не было времени? Решила, что он ничего не сможет? Возможно.
Сломанное крыло тянет вниз, мешает двигаться, висит безжизненной тряпкой. Тварь напротив тоже особенно счастливой не выглядит.