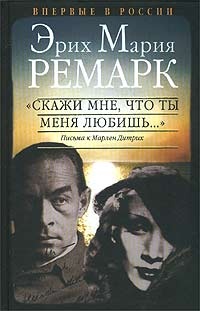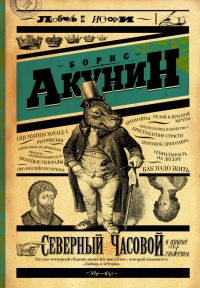рисунки и стихи отдала тайком их общей подруге и кузине Сашеньке Верещагиной.)
Лермонтов также писал часто ее старшей сестре Марии — то была девушка сложной судьбы: у нее было что-то с позвоночником, может небольшой горб, и замужество ей не светило. Она жила жизнью близких. Наверное, и так можно жить.
В осеннем письме Марии в конца августа 1832 года из Петербурга он добавил в post scriptum’е: «Мне бы очень хотелось задать Вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадаете, хорошо, я буду рад, если нет — значит, задай я этот вопрос, Вы все равно не сумели бы на него ответить. Это такого рода вопрос, какой, быть может, Вам в голову не приходит…»
Мария ответила быстро: «Поверьте мне, я не потеряла способности угадывать ваши мысли, но что Вы хотите, чтоб я Вам сказала? Она здорова, по-видимому, довольно весела. Вообще ее жизнь такая однообразная, что даже нечего о ней сказать, сегодня, как вчера. Я думаю, Вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но, со своей стороны, я бы желала для нее больше разнообразия… что это за жизнь для молодой особы, слоняющейся из одной комнаты в другую?..»
В письме был очевидный упрек: «Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами? Если я не ошибаюсь, это решение должно было быть внушено Вам Алексеем Столыпиным». Речь шла о выборе им нового жизненного пути. Военной карьеры. Ошибалась. Столыпиным — но не тем.
Но упрек шел ото всех его московских близких, это точно. От Вари в том числе.
В том письме, где он задавал вопрос, какой не решался сформулировать, было еще: «Вот, кстати, стихи, которые сочинил я вчера на берегу моря»…
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. —
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Приведено как бы между прочим. Он вовсе не представлял себе, что создал одно из лучших русских стихотворений. Но в личном плане здесь — первая из попыток объяснить себя Варе. И первая молитва, обращенная к ней, — о прощении и о принятии его таким, как есть.
«…я сам не знаю, каким путем пойду — путем порока или глупости. Правда, оба пути приводят к одной и той же цели… Я счастливее, чем кто-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице. Вас коробит… но увы! скажи, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты!»
XII
Когда мы забываем кого-то, мы обычно забываем сперва себя, какими мы были, или отказываемся от прежних себя. Его того больше не было. Был кто-то другой…
Вспыхнуло в последний раз в письме ее сестре почти молящее: «В настоящее время Ваши письма мне нужнее, чем когда-либо. В моем теперешнем заключении они будут для меня высшим наслаждением. Только они смогут связать мое прошлое и мое будущее, которые уходят каждое в свою сторону, оставляя между собой преграду из двух тягостных и печальных лет…»
Конечно, это писалось не только Марии или не столько ей, сколько той, другой. Просто был удачный посредник… Но… Вспыхнуло и погасло.
«Преграда» оказалась, вопреки ожиданиям, если и «тягостной», то терпимой и уж точно не совсем «печальной». Просто она состояла из другой жизни, не той, что была прежде. И он ринулся в эту иную жизнь со всем отчаянием и со всей страстью. «И сердце бросил в море жизни шумной, / И свет не пощадил — и Бог не спас!»
«Связать прошлое и будущее»? Но они разошлись! Будто огромная часть души откололась и заместилась другой, которая тоже была его, но он о ней прежде и не подозревал. Мальчик, воспитанный бабушкой, в строгих правилах, выросший в культурном кругу, был выброшен на скользкую и вибрирующую под ногами площадку манежа среди взмыленных коней, конской сбруи и грубых команд… и ему предстояло стать здесь своим. И он сделал все, чтоб это состоялось. Вари больше не было в его жизни не потому, что он забыл ее. Он просто позабыл того себя…
Однажды в манеже лошадь сбила его с ног и ударила копытом в колено. Он долго лежал в госпитале. И потом часто хромал: болело под погоду, он смеялся над собой: «Хром, как Байрон!» Но мальчика с огромным томом под мышкой больше не было вовсе. Байрон вместе с Варей был далеко.
Когда он оказался в госпитале, бабушка попросила семью родственников — мужа и жену — навестить его. Они послушались и навестили. Он встретил их так холодно и отчужденно, что они не понимали потом — зачем пошли.
Аким Шан-Гирей, двоюродный брат, привез ему поклон от Вареньки из Москвы…
«Мне было досадно, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:
— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!»
Красиво, правда?..
«Народ», — сказал Лафа рыгая, —
Что тут сидеть! за мной ступай —
Я поведу вас в двери рая!..
Вот уж красавица! лихая…
И показал, что вы думаете? — и показал!
То был Лафа буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни доппель-кюмель, ни мадера,
И даже шумное аи
Ни разу сладить не могли.
Лафа был Поливанов — улан, а не гусар. Но заводила их гусарских подвигов, как и он, «веселее любого пьяницы»…
Но когда он несколько лет спустя встретил Лафу, то даже удивился. Это был уже никакой не Лафа, а улан Поливанов — вполне почтенный, даже женат.
Они все после переменились. Но тогда, в юнкерскую пору… что делать? Они были такими. Мальчишки, в основном домашнего воспитания, оказавшиеся вдруг в среде, где все дозволено… Ну, не в казарме, разумеется, и не на плацу — тут они подчинялись ох какой дисциплине… Но в похождениях свободного времени, когда вдруг вырываешься на чистый воздух…
А Танюша, «клад», открытый Лафой… была не то чтоб проститутка… что нет, то нет… но девица легкого поведения, это точно!
Они и ввалились к ней впятером или вшестером — с пылу с жару, под выпивкой. И — один за другим, за милую душу.
Сначала маленьких пошлем,