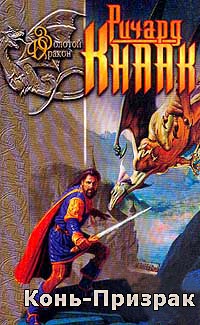А Зарецкий замирает под псом, за моей спиной не слышно больше дыхания и шорохов одежды, и тварь победно воет. Вскидывает морду к куполу и воет, и звук этот пробирает до костей, выскребает из меня все, выворачивает наизнанку. Ломит кости, сводит мышцы, и трещит хребет, озноб прокатывается волной от затылка к пяткам, дрожат руки. Я смотрю на тварь и вижу в ней все гадкое, все грязное и отвратительное, что было в моей жизни. Слышу в голове тысячи голосов, криков и стонов, чувствую снова, будто впервые, каждую душу и каждую смерть. Брешь опять зовет из пустоты небытия.
Ноги двигаются будто сами собой. Я делаю шаг, потом еще один. А потом мой взгляд снова упирается в Зарецкого. В шипящего и матерящегося Аарона, в кровь цвета серебра, в черные крылья.
Сучка.
Я сбрасываю липкие чужие путы и следующий шаг делаю сама, а не потому, что зовет гончая. Следующий шаг и я бросаюсь вперед. Теперь вижу, что Бэмби-Алине тоже досталось.
Я падаю на колени, хватаю гончую за голову, чтобы запрокинуть, и открываю рот.
Мы еще посмотрим, кто тут главная сука в стае.
Глава 22Аарон Зарецкий
Состояние и настроение Лис меня тревожит и нервирует гораздо больше, чем можно было бы ожидать. Мне не нравится беспокойный ад внутри нее, синяки под глазами и слишком бледное лицо, не нравится тихий голос и сквозящее в нем смирение. Мне хочется встряхнуть собирательницу и заставить говорить, но я боюсь ее сломать, поэтому не делаю ни того, ни другого. Молчу о том, что знаю, где искать марионетку, молчу, о ее личности и давлю в себе чувство беспомощности, родившееся в невозможности помочь Элисте.
Если уж на то пошло, я вообще не собираюсь никому говорить о Кукле. Потому что Кукла - мой гребаный косяк. Это я не заметил Ховринку в ее снах, это я не стал копать глубже, хотя мог, это я все просрал. Теперь надо исправлять. Дьявол тоже иногда ошибается.
Я обнимаю дрожащую Лис, целую в висок и зарываюсь носом во все еще влажные волосы у шеи. Хочется надеяться, что новый день и спокойная ночь помогут ей хоть немного. Под ее тихое дыхание думаю о том, что пора убить тварь, пора сделать так, чтобы она больше не лезла ни к Эли, ни к Дашке, не мешала им жить и быть, не вытаскивала на свет, как из могилы, старые никчемные воспоминания и пороки.
Это желание так сильно, что я почти силой заставляю себя не дергаться, а попытаться уснуть, потому что Литвин прав: нам всем сейчас нужен отдых. Валить суку будет проще, если башка будет соображать как надо, а не вариться в тягучем киселе усталости.
Я притягиваю Элисте еще ближе к себе и закрываю глаза.
И мне снится прошлое: юная знахарка с волосами цвета горького шоколада, тонкие запястья, почти черные глаза, цыганский платок на узких плечах и немного грустная улыбка на коралловых губах. Она смотрит так, будто знает обо мне все. Даже то, чего я не знаю сам. Она говорит так, будто сама удивляется своим словам, но верит им бесконечно. Она задает вопросы, вскрывает старые нарывы и тревожит что-то глубоко внутри. Ее голос, чистый и звонкий, в ночной тишине, или под светом весеннего солнца, или в прохладе вечерних сумерек. Теперь я очень хорошо вижу ее лицо, теперь я понимаю, что не мужчина, а женщина горела на том проклятом костре, перед толпой, алчущей крови.
Это Элисте.
Она совершенно не похожа на себя сейчас: ниже ростом, плотнее, ярче, дышит жизнью и странным светом. Не тем светом, к которому я привык. Ее свет не режет глаза, не продирает легкие, не вонзается иглами в голову. Он мягкий, тонкий, с запахом пряных трав и росы на полевых цветах. Он ярче и насыщеннее, когда она волнуется или радуется, тоньше и призрачнее, когда грустит. И в этом свете лишь капля ада, такая маленькая, что ее почти невозможно заметить, если не искать: это старые боль, злость и обида, родившиеся в утрате.
И эта капля тоже прекрасна, ведь она – часть травницы.
Мой сон странный, прерывистый и бессвязный: прикосновения, жесты, слова обрывками и взгляды, полные невысказанных сомнений, обещаний, желаний. Яркий рисунок цыганского платка на плечах, шелест листвы, сумрак ночи и отблески пламени в пасмурном небе. Застывшая, пойманная в сети моей ярости и боли молния.
Я любил ту Элисте. Я дышал ею и нашими встречами. Я хотел ее. Стремился, желал, верил. И я помнил ощущение… потери. Безнадега, что накрыла, обрушилась и вырвала из меня последний кусок того светлого, что еще оставалось… Чужие руки выдрали фунт мяса.
«И мясо можешь вырезать из груди;
Так повелел закон, так суд решил.»
И этот последний фунт плоти остался гнить у того самого кострища, на котором она сгорела, в угоду чужой воле и страхам.
Страх – крыса, зараженная бешенством невежества. Он кусает исподтишка и прячется в норе, ждет, когда укушенный все сделает сам, вылазит наружу глубокой ночью, в полной темноте и тишине, чтобы кормиться с пола крошками слухов.
Кто-то видел, кто-то слышал…
«Лис танцевала под луной, молодая знахарка купалась обнаженной в горном ручье, и на ее теле были видны следы лап дьявола, а в соседнем городе умер младенец, пропал в лесу ребенок, заболела скотина, на прошлой неделе был плохой улов».
И толпа забрала ее у меня.
К сожалению, люди ошибаются чаще, чем Люцифер, и, что странно, их ошибки обходятся дороже.
Колючий страх заставляет меня открыть глаза и задохнуться, потому что кажется, что Эли снова нет. Короткий миг между сном и реальностью, когда стираются грани.
Но я чувствую ее рядом, по-прежнему в моих руках: теплую, живую, уже другую, но все равно мою, и целую спящую, вдыхаю запах, прижимаю крепче.
За окном предрассветные сумерки, в доме тишина, и мое сердце замедляет свой бег. Все хорошо, Лис тут. Я слушаю ее дыхание еще какое-то время, смакую ее присутствие, а потом все-таки поднимаюсь с кровати, стараясь не разбудить, выскальзываю в коридор.
Мой свет теперь снова со мной. Свет, вкус, запах и я снова готов убивать за них. Кого-то жизнь ничему не учит, да, Отец?
Я захожу в комнату к Данеш и Мизуки, бужу, говорю, что жду их внизу, и спускаюсь в гостиную. Мне надо знать, что делал ковен с Алиной в деталях. Возможно, это поможет.
Взгляд натыкается на бомжа на подоконнике. Он смотрит своими огромными глазищами, дергает ушами, перебирает лапами.
«Мя-я-я-я», - тянет черномазое чудовище.
Вот она, другая сторона Лис, в этом коте, в потрепанном комке шерсти, успевшем немного отъесться и совершенно точно освоившемся в новой сытой жизни. Чудовище все еще страшно, как смертный грех, все еще кажется вываленным в грязи, все еще мелкое и стремное. Но уже без соплей и настороженного, полного недоверия взгляда.
- Жрать не дам. Дашка тебя покормит, - качаю головой и провожу между ушами монстра.
У той Лис тоже был кот, тоже дворовый, настоящий бандит. Он ловил крыс и мышей, гулял гордо и деловито по маленькому двору и чувствовал себя настоящим хозяином жизни.