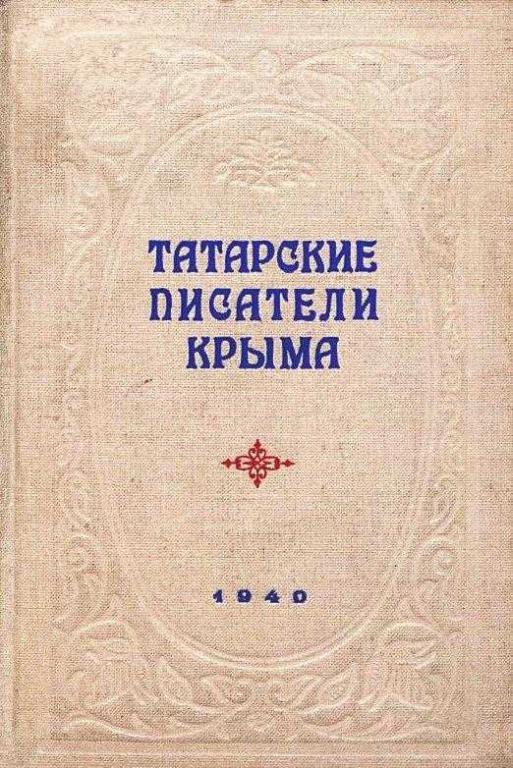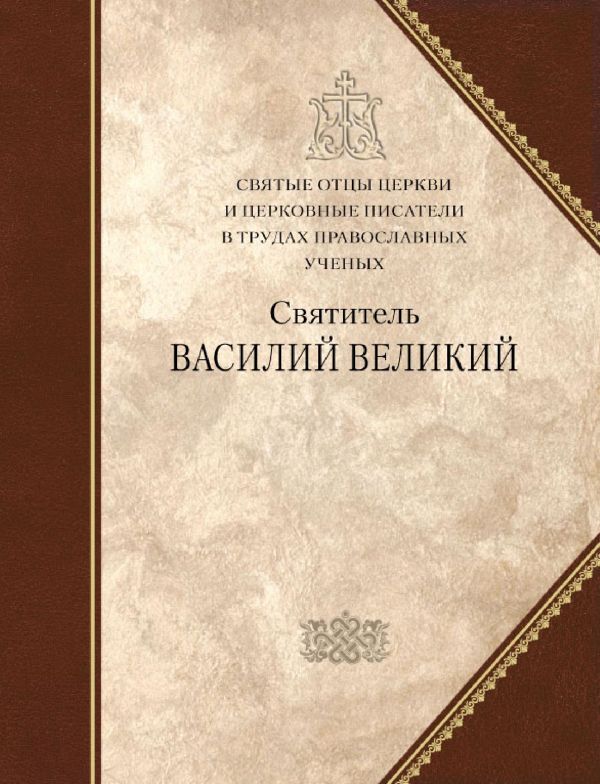выделяет сложные модели, подмечает нюансы, раскрывает более широкий смысл сказанного художником. Критическая мысль в своих высших достижениях способна выявлять в произведении связи, которых не заметил, быть может, и сам художник,— тем самым она выполняет благороднейшую миссию. Однако в применении к живому творчеству холодный интеллект породит, скорее всего, произведения поверхностные, где искусство все сведено либо к чувственному переживанию, либо к идее. Мы наблюдаем это во всех тех случаях, когда искусство откровенно конструируется по образцу теории, как в музыке Джона Кейджа или в прозе последних лет Уильяма Гэсса. Как самоцель, совершенствование элементов формы становится чисто интеллектуальным, даже академического толка, упражнением—образцами последнего могут служить и те художественные произведения, в которых сюжет сводится к чистой схеме, а характеры и человеческие отношения—к бескровным олицетворениям идей. Искусство соединяет душу и тело, непросветленное разумом чувство и бесчувственную абстракцию. Философия более обозначена последовательностью, чем тем, что Уильям Джеймс называл «гудящей, цветущей путаницей жизни». То, что философия вершит по отношению к действительности, критика вершит по отношению к искусству. Искусство же бредет наугад—как охотник, заблудившийся в лесу,—прислушиваясь к происходящему внутри и вокруг себя, в себе неуверенное, готовое в любой миг перейти к решительным действиям. Из этого не следует, впрочем, что связи между искусством и философией вовсе нет. Когда рушится некая метафизическая система или кажется, что она рухнула, формы искусства, ее подкреплявшие, не ощущаются более как верные или адекватные. Так, обнаружив, что небо «обезбожело», Харт Крейн взломал поэтический строй, а его друг Джин Тумер, убедившись в том, что старые формы неспособны верно отобразить мистический калейдоскоп его прозрений—в отличие от *срейновских прозрений религиозного характера,— отбросил традиционные литературные формы. Ни в том, ни в другом случае разрушение традиции не было философской акцией. Крейн и Тумер охотились, а не выдавали готовых решений. Смена эстетических форм не обязательно знаменует собой прогресс в философии, обычно она означает только, что охотник, опустошив одну часть леса, перешел на новое место или на опустошенное прежде и успевшее вдвое заполниться дичью. Искусство не философия, но, как утверждал Р. Г. Коллингвуд, «режущая грань философии».
Используя другую традиционную метафору, можно сказать, что эстетические стили, способы коммуникации чувства и мысли от употребления тупеют, как кухонные ножи. А поскольку тупость — первейший враг искусства, каждое поколение художников вынуждено выискивать новые способы отделения жира от мяса действительности. Порой этот поиск заставляет художников, ступая на тропу, лишь намеченную в творчестве какого-нибудь гения, прокладывать ее дальше, в неведомое,— подобно тому как Брамс, Дебюсси, Вагнер до конца проследили развитие тех начал, что содержались в намеке у Бетховена, или как Дос Пассос, Хемингуэй, Фолкнер и другие подхватили идеи Джойса и Гертруды Стайн. Иногда новое принимает вид реакции на старое. Так, социальный реализм времен О’Хары уступает место моде на фабулизм, а фабулизм в свою очередь, без сомнения, уступит дорогу сюрреализму, реализму или еще чему-нибудь. Некоторые критики приветствуют всякую перемену как признак откровения, выражение нового восприятия реальности. Например, упадок романа с четко разработанным сюжетом или стройно организованной драмы, отказ от мелодии в музыке или от реалистического образа в фотографии и кинематографии приветствуются как ограниченное выражение в искусстве новейших представлений о вселенной-хаосе. Однако такой подход, как я уже говорил выше, чреват заблуждениями.
Он чреват заблуждениями по двум основным причинам. Несмотря на глубокомысленные междометия, испускаемые в этой связи современными философами, метафизические системы не рушатся под напором более поздних и глубоких прозрений, обычно их просто оставляют, как оставляют обветшалые старые замки—порой после бесконечной возни по их ремонту и неуклюжему подновлению. На этом, конечно же, отчасти построена ироническая игра у Кафки в «Замке» и в других произведениях. Кафку часто называют в числе тех художников, что «представили нам» крах традиционного образа мышления: замок метафизики, который люди, трудясь век за веком с безнадежностью отчаяния, расширяли, латали, укрепляли подпорками, в итоге все-таки оказался чудовищной ошибкой. Однако в искусстве Кафки куда более тонкости, комизма, иронии, чем открывается нам при подобном прочтении. Сила воздействия его произведений в значительной степени обусловлена чувством, возникающим у нас при чтении, что настоящие секреты позабыты, настоящие ключи к тайне остались незамеченными, а некогда существовавшая целостность восприятия утрачена и теперь трагически невосстановима. Почти о том же самом говорит Мелвилл в «Шарлатане» и, правда уже совсем иным тоном, в заключении к «Израилю Поттеру». Традиционные для янки христианские добродетели, воплощением которых выступает Израиль Поттер, не то чтобы развенчаны или обнаружили свою несостоятельность—просто они утратили хождение, их перестали ясно понимать и сочли устаревшими.
Мыслители, склонные, подобно Ницше или Кьеркегору, к интуитивистскому философствованию, ныне заслонили собою такие направления, как школа оксфордских идеалистов, хотя ничто в их трудах не опровергает идеалистической позиции, более того, не свидетельствует об ее ясном понимании даже в таком важнейшем вопросе, как вопрос о возможности существования разумного добра. Таким образом, традиция, идущая от Брэдли и
Коллингвуда к Джорджу Седжвику и Брэну Бланшару, не говоря уже о современных феноменологах, отнюдь не устарела безнадежно, а только впала в немилость у наших современников — она СЧИТАЕТСЯ устаревшей, как соната или роман с полнокровными характерам# и сюжетом. С другой стороны, торжествующие ныне позиции экзистенциалистов, абсурдистов, позитивистов и прочих не проявили себя как более основательные — просто в данный момент они оказались более модными. По некоторым признакам момент этот уже проходит. Ну а истина, безусловно, заключается 3 том? что вселенная отчасти упорядочена структурно, отчасти же—цет; если бы дело обстояло иначе, никто не в силах был бы сопротивляться тотальной энтропии. (Сейчас это уже доказано математически. Если помните, именно эта проблема занимала Эйнштейна на смертном одре.) До тех пор пока внимание философов сосредоточено н^ неупорядоченной части вселенной, а добро и зло, даже когда речь идет о любви к собственным детям, рассматриваются имй по аналогии как понятия рудиментарные, до тех пор пока большинство людей продолжают этой философии верить, драматург или романист, скульптор или композитор, отражающие ее в своих произведениях, будут представляться «современными» и «интересными». Но стоит только философам вкупе с их прямыми и косвенными последователями перенести фокус внимания на явно упорядоченные аспекты вселенной и этот порядок сделать основой своих аналогий, как художническое любование вездесущим хаосом и распадом представится безосновательным и наводящим скуку.
Слишком прямолинейное отождествление новаторства в области Стиля и философского первооткрывательства чревато заблуждением и еще по одной, более важной причине: оно может породить ложное представление о творческом процессе, а ложь, кажущаяся убедительной, будет поощрять художника следовать по неверному пути, остальное же человечество—превозносить его за