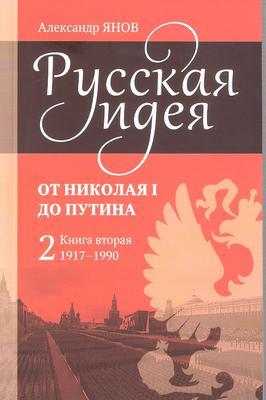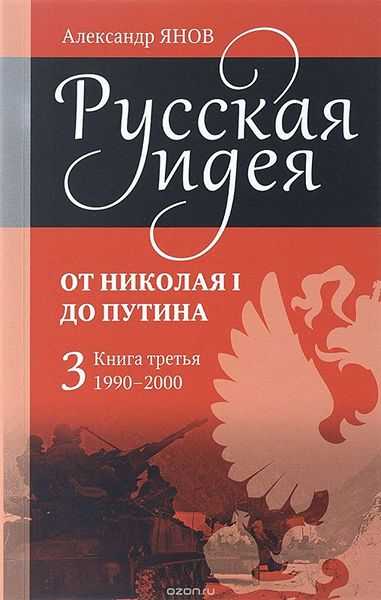стало больше…»
Нынче правды в мире стало больше,
и она на нашей стороне.
А французы или, скажем, боши —
что они поймут в чужой войне?
Наша правда крепнет с каждым залпом,
прорастает в песнях и умах.
Это то, чего не сможет Запад
наскрести в армейских закромах.
То, чем не владеют англосаксы,
исстари народец воровской.
Есть у них лишь фунты или баксы,
правды нет за ними никакой.
Нашей правдой светится в полёте
дружная ракетная семья.
Наша правда бешено молотит
по бетонным норам бандерья.
И пускай ни капли ей не радо
лживое нацистское кубло,
можно жить без Gucci и без Prada,
а без правды будет тяжело.
«Вышли из-за лужи…»
Вышли из-за лужи
злые упыри
с дырочкой снаружи,
с дырочкой внутри.
Всем ховаться в погреб
и читать Псалтырь.
Вон идёт их подлый,
главный их упырь.
С дырочкой в макушке,
с дырочкой внизу.
С ним не сладить пушке,
пуле и ножу.
Как глухие стенки,
движутся полки.
Там и упыренки,
и упырюки.
Дух от них мерзотный.
Что же их возьмёт?
Цвет ли папоро́тный?
Волчий ли помёт?
Жаркая молитва
образу Христа?
Наша с ними битва
будет непроста.
Девушка заплачет,
зарыдает мать.
Так или иначе,
надо побеждать.
Надо через силу,
через смрад и дым.
Надо сквозь могилу
проскользнуть живым.
А не то и сами
станем упыри
с красными глазами,
с дырочкой внутри.
«Русская литература, ласковая жена…»
Русская литература, ласковая жена,
в городе Николаеве запрещена.
Разрешены аборты, пытки и кокаин.
Русской литературы нету для украин.
Разрешены «Макдоналдс», Будда и Сатана.
Русская литература нынче запрещена.
В городе Кропивницком, бывший Кировоград,
русской литературе больше никто не рад.
В Екатеринославе, на берегу Днепра,
знать не желают росчерк пушкинского пера.
Прокляли в Конотопе нашу «Войну и мир».
Будете, как в Европе, каждый себе Шекспир.
Видно за океаном пламя от русских книг.
Не дописав романа, празднует Стивен Кинг.
Было в семье три брата, нынче осталось два.
Сами ли виноваты, карма ли такова?
Горькие ли берёзы? Жёсткий ли алфавит?
Карцер для русской прозы будет битком набит.
Но как слеза ребёнка или кислотный тест —
русская запрещёнка стены насквозь проест.
«Сегодня убили детей…»
Сегодня убили детей,
убили вчера при обстреле,
и нету других новостей,
а эти давно надоели.
Нам нечем порадовать свет,
всё это неинформативно.
Другой информации нет.
«Убили, убили». Рутина.
Расстрелянный город Донецк,
Макеевки взрывы и стоны,
и тянутся ленты агентств,
вплетаясь в венок похоронный.
«На улице прохладно, как в Эстонии…»
На улице прохладно, как в Эстонии,
над рестораном запах Сакартвело[3],
а я стою на стороне Истории,
особенно опасной при обстреле.
Мимо меня просвистывают скорые,
поют певцы дурными голосами.
Я жду тебя на площади Истории,
у памятника, ровно под часами.
Ползут и часовая, и минутная,
давно прошли назначенные сроки.
Меня жалеет публика беспутная,
за столиками попивая соки.
Но ты придёшь, желанная красавица,
и я на миг застыну безъязыко,
когда ты так застенчиво представишься:
«Победа, или можно просто Вика».
«Был в Одессе ресторан «Сальери»…»
Был в Одессе ресторан «Сальери»,
а напротив «Моцарт» был отель.
Оба эти здания сгорели.
Всё сгорело. Город весь сгорел.
Как Одесса оперная пела,
как над морем голос тот летел.
Человечки слеплены из пепла.
Ходят в гости, делают детей.
Не пойми с какого интереса
всё хотят поговорить со мной.
Мне приходят письма из Одессы,
а в конвертах пепел рассыпной.
Там сгорают прежде, чем родиться,
не успев построить, сносят дом.
Кормят по новейшей из традиций
щукой, фаршированной огнём.
Пишут мне: здесь нет и тени ада,
круглый год акация цветёт.
Моцарт не страшится больше яда
и в Сальери целит огнемёт.
«Назовите молодых поэтов»…»
«Назовите молодых поэтов», —
попросил товарищ цеховой.
Назову я молодых поэтов:
Моторола, Безлер, Мозговой.
Кто в библиотеках, кто в хинкальных,
а они – поэты на войне.
Актуальные из актуальных
и контемпорарные вполне.
Миномётных стрельб силлаботоника,
рукопашных гибельный верлибр.
Сохранит издательская хроника
самоходных гаубиц калибр.
Кровью добывается в атаке
незатёртых слов боезапас.
Хокку там не пишутся, а танки
Иловайск штурмуют и Парнас.
Не опубликуют в «Новом мире» их,
на «Дебюте» водки не нальют.
Но Эвтерпа[4] сделалась валькирией
и сошла в окопный неуют.
Дарят ей гвоздики и пионы,
сыплют ей тюльпаны на крыло
молодых поэтов батальоны,
отправляясь в битву за село.
Есть косноязычие приказа,
есть катрены[5] залповых систем,
есть и смерть – липучая зараза,
в нашем деле главная из тем.
«Жертв и пострадавших больше нет…»
Жертв и пострадавших больше нет.
Нет на свете жертв и пострадавших.
Нострадамус вышел на обед
и не хочет знать, что будет дальше.
Нас с тобою – целый райский сад
и предновогодняя витрина.
Попугай, отчаянно