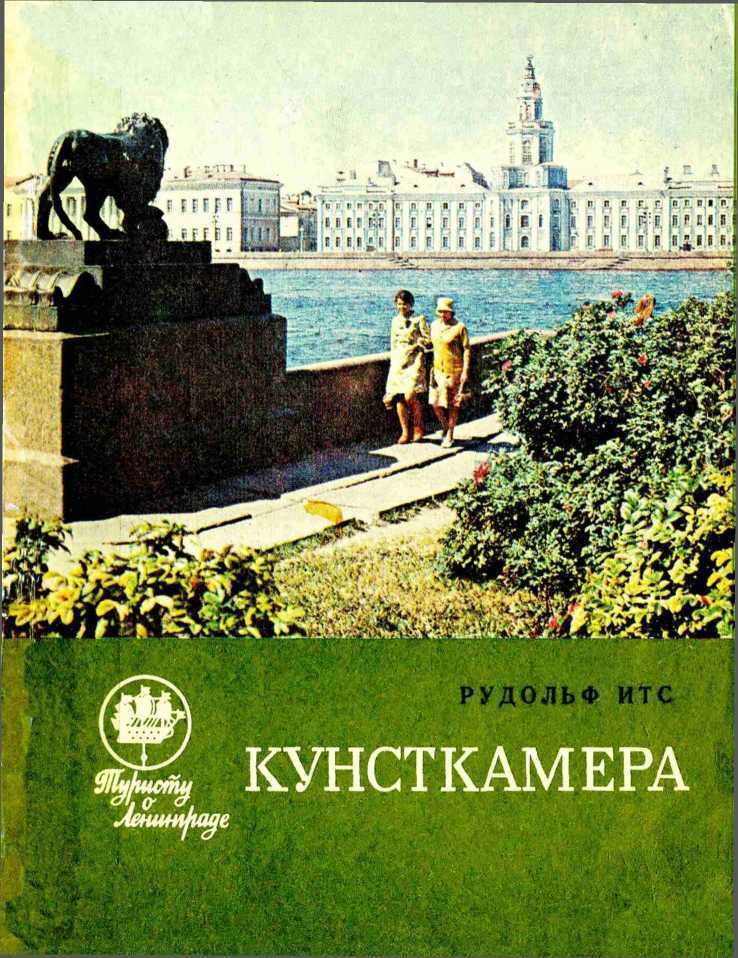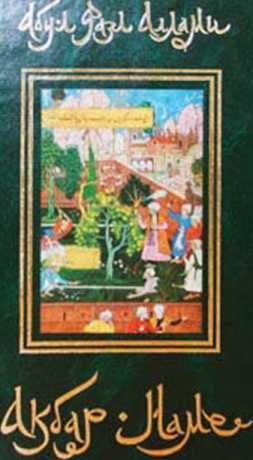Петербург. Ему даже нанимают в городе флигель с палисадником напротив Таврического. Но вопреки планам Муравьёвой Константин Николаевич оказывается не в Петербурге, а в Вологде.
В 1833 году в дело вмешивается родной дядя поэта, отцов брат, тайный советник и старший родственник Павел Львович Батюшков. Не слишком заметный в судьбе племянника ранее, сейчас он с неожиданной энергией принимается за хлопоты. Во-первых, отстраняется прежний опекун вологодского имущества поэта – шурин Батюшкова Павел Шипилов, муж сестры Елизаветы. Он отстраняется не только в связи с переездом из Вологды в столицу, но также из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Во-вторых, новым опекуном назначается племянник поэта, морской офицер в отставке Григорий Гревенс: сын старшей сестры Батюшкова, покойной Анны. А в-третьих, принимается решение о переезде Батюшкова в Вологду, где Григорий Абрамович жительствует.
Подобно Батюшкову, Гриша Гревенс осиротел рано. Он вырос в петербургских казармах морского училища и был рад посещениям Константина Николаевича, который не забывал одинокого мальчика. Надо полагать, что образ поэта-адъютанта Раевского, участника Битвы народов и взятия Парижа оставил в детской душе будущего флотоводца яркое впечатление.
1820-е годы Григорий Абрамович проводит в морских походах, а в начале 1830-х женится на вологодской помещице Брянчаниновой. Он оставляет военную службу и перебирается в Вологду на должность попечителя Вологодского училища. А вскоре становится управляющим Удельной конторы, которая ведает царскими землями.
В обязанности опекуна входило содержание подопечного из средств, которые тому принадлежали. Из отчётов по расходам на Батюшкова мы видим, что поэт по-прежнему оставался щепетилен в одежде. Он любил шёлковые платки и халаты, а голову покрывал вышитой ермолкой из бархата. Константин Николаевич предпочитал нюхательный табак из Франции и пил только виноградные вина, которые выписывались из столицы. Всё это вызывало подозрения у ревизоров, считавших, что Гревенс просто “списывает” на халаты и вина собственные издержки, однако, зная придирчивый вкус Батюшкова, можем ли мы всерьёз говорить о “приписках”?
Ничего, кроме нескольких записок и писем, и рисунков – за двадцать с лишним лет жизни в Вологде от Батюшкова не останется. Только в 1852 году в альбоме внучатой племянницы, дочери Гревенса Елизаветы, неожиданно появится поэтическая запись. Это будет стихотворение “Подражание Горацию”.
Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон)
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить:
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А кесарь мой – святой косарь.
На первый взгляд – поэтически организованный бред; однако своя логика, и какая! в нём присутствует; даже в состоянии изменённого сознания Батюшков остаётся человеком Литературы. Перед нами вариация оды Горация “Exegi monumentum”: стихотворения, самое знаменитое переложение которого принадлежит Пушкину. Перекладывал “Памятник” и Ломоносов. Однако во времена, когда Батюшков здравствовал, самый известный перевод принадлежал Державину. Батюшков вырос на стихах Державина и в “Подражании Горацию” обыгрывает строки любимого поэта. “Я памятник воздвиг огромный и чудесный, / Прославя вас в стихах: не знает смерти он! / Как образ милый ваш и добрый и прелестный / (И в том порукою наш друг Наполеон)”. Кого поэт прославил в стихах? Стихотворение записано в альбом племяннице, а значит – её образ: “добрый и прелестный”. Но почему этот образ “не знает смерти”? Потому что его воспел поэт. А литературные образы, созданные поэтом, остаются в веках, вместе с Ариосто уверен Батюшков. Они бессмертны подобно деяниям великих полководцев (отсюда и порука Наполеона). “Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья…” – над поэтом больше нет бога, он сам себе бог и по своей воле соединяет звенья поэтических образов в цепь стихов, “В которую могу вселенну заключить”, т. е. запечатлеть в поэзии то, что подвластно лишь богу: всё мироздание в его красоте и цельности. А дальше идёт искажённая цитата. У Державина: “Что первый я дерзнул в забавном русском слоге / О добродетелях Фелицы возгласить, / В сердечной простоте беседовать о боге / И истину царям с улыбкой говорить”. “Фелица” – Екатерина II, неоднократно воспетая Державиным. У Батюшкова – “Елиза”. Вряд ли он имел в виду императрицу Елизавету, чей образ во времена Батюшкова был давнишним прошлым. Однако в стихах поэта во множестве упоминаются разнообразные “Аглаи” и “Делии” – литературные “кальки” с подруг Горация и Тибулла, готовые (вопреки общественному мнению) запросто делить с поэтом радости страсти вдали от суеты света. Возможно, в образе “Елизы” мерцают образы “пастушек несравненных”, о которых так часто писал поэт; не говоря о том, что адресата послания, 16-летнюю племянницу Батюшкова, зовут Елизавета Григорьевна. Державин “истину царям” говорил “с улыбкой”, а Батюшков, наоборот, хочет “истину царям громами возгласить”. Что абсолютно логично, ведь если поэт выше бога поэзии Аполлона, то выше земных царей он и подавно. А язык разговора богов со смертными – громы и молнии, это известно. Впрочем, Батюшков всё-таки делает исключение: “Царицы царствуйте, и ты, императрица!” Можно предположить, что речь идёт о богине красоты и гармонии, “императрице” Венере – и “царицах” музах, верховенство которых Батюшков всё-таки склонен признать над собой; царям же земным и самому Аполлону остаётся смиренно преклонить перед поэтом голову, поскольку “я сам на Пинде царь!” Стало быть, “Венера мне сестра” – “…и ты моя сестрица”, добавляет он, как бы напоминая себе и читателю, что вообще-то перед нами стихи в альбом юной родственнице. Однако ничто не мешает больному воображению счесть её музой, ведь именно благодаря племяннице и пишется это “Подражание”. Но кто же тогда “кесарь мой”? Царь, верховенство которого Батюшков безоговорчно признаёт (“А кесарь мой – святой косарь”)? Помимо основного значения (тот, кто косит), у этого слова есть ещё одно значение. “Косарем” называли большой нож с широким лезвием. Его часто делали из обломка косы. Стихотворение “Выздоровление”, которое Батюшков напишет, чудом избежав гибели под Гейльсбергом, начинается сравнением загубленной жизни со срезанным ландышем: “Как ландыш под серпом убийственным жнеца / Склоняет голову и вянет…” Предположим, что “святой косарь” и есть жнец, под чьим “серпом” вянет жизнь.