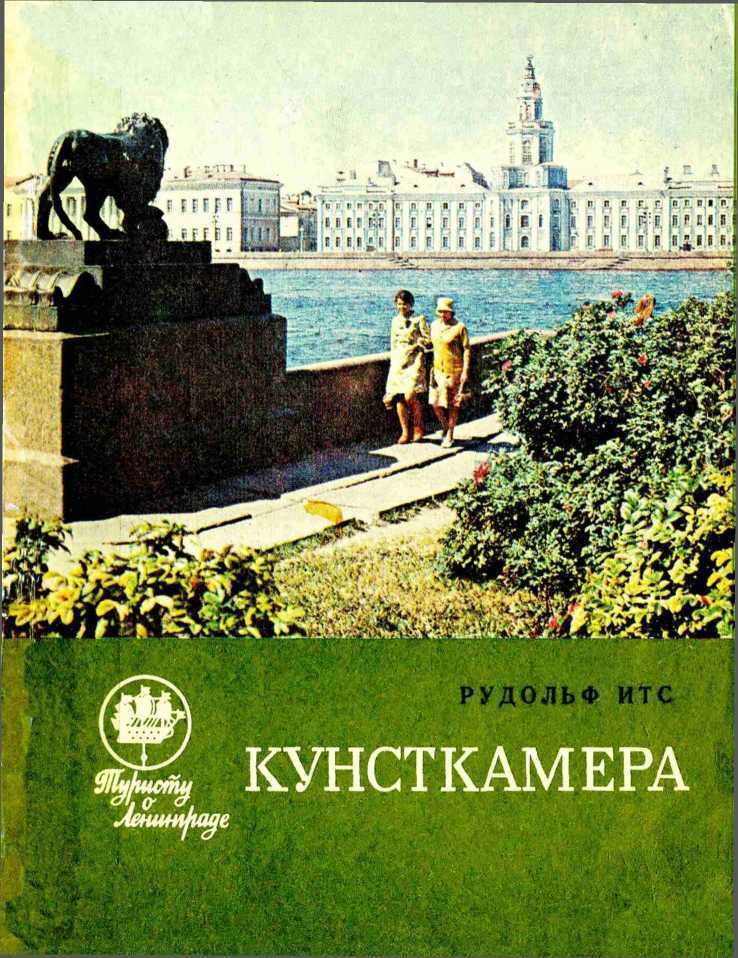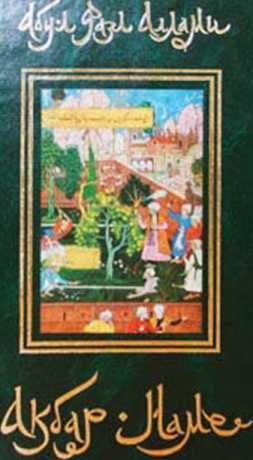жизни и желания смерти. Доктор Хайнрот посчитал бы его исключительным экземпляром – поэт был носителем сразу всех состояний. Он рвал и выбрасывал собственные рисунки и часами выкрикивал проклятия; он мог швырнуть из окна поднос с обедом или облить водой служителя. А мог часами молиться на закатное солнце. Бывали периоды, когда Батюшков неделями не выходил из комнаты и лежал на диване, отвернувшись к стене и не принимая никакой еды, кроме сухарей и чая. Бывало, разговаривал на итальянском и французском с любимыми поэтами прошлого, и даже делил с призраками трапезу. В остальное время гулял и рисовал (в том числе углём на оштукатуренных стенах палаты), или вылепливал фигурки из воска, весьма натуральные, по замечанию доктора Дитриха. Дни “арт-терапии” были самые тихие и ясные в его больничной жизни. Жаль, что ничего из этих рисунков не сохранилось. Иногда он жаловался на ослабление памяти, но часто повторял: “Я ещё не совсем дурак!” Друзей и родственников не узнавал или делал вид, что не узнаёт, если видел в них одному ему внятную угрозу. Часто принимал санитаров и сиделок за тех, кого искренне любил, – за младшего сводного брата Помпея, например, и младшую сестру Юлию, и тогда требовал от них прекратить дурацкие переодевания. Тех, кого Батюшков считал причиной своих злоключений, графа Нессельроде, например – его воображение поселяло в неожиданных местах, скажем, в печке. Обуреваемый эротическими фантазиями, он видел на потолке голых женщин и жаловался, что по ночам они соблазняют его. Разговоры о прошлом – о любви, дружбе или творчестве – вызывали у него стойкое отторжение и приводили к истерике, что было понятно, ведь накануне болезни Батюшков твёрдо положил считать себя неудачником на этих поприщах. Он испытал на себе привязывание и смирительную рубашку, ледяные ванны и обливание головы (Sturzbad), после которого голова немеет, а всё тело долго ещё пронизывает ледяной столб. Страх перед пеленанием в “сумасшедшую рубашку” делал его, как и многих больных, послушным, и врачи этим пользовались. Но даже такие варварские методы были прогрессивными для своего времени[69].
Чтобы вернуть пациента к реальной, а не вымышленной, картине мира – чтобы перегруппировать его болезненные реакции и заменить их здоровыми – применялись, как видим, разные средства. К уже упомянутым добавим вращательную кровать, на которой при скорости 40–60 оборотов в минуту у пациента начинались удушье и рвота. Подобные проявления телесности, по мнению медиков, могли вернуть душу пациента “на землю”. Центробежной силой вращательных машин лечили также эпилептиков и самоубийц. Применяли кровопускание, рвотный камень, прижигание горячим воском, гидротерапию (внезапное погружение в ледяную воду) – и электризование. Считалось, чем радикальнее воздействие, тем лучше. Только так можно отвлечь пациента от “мономании” – навязчивых идей и образов, которые его обуревают.
Кроме физического воздействия широко применялась так называемая “моральная терапия”. В таких случаях врач “принимал” бред больного за правду и подыгрывал ему, по-сократовски шаг за шагом подводя пациента к осознанию ложности собственных установок. Иногда разыгрывались целые спектакли. Сохранилось несколько таких “анекдотов”. Так, например, одному больному, убеждённому в том, что у него в желудке стоит воз с сеном, дали рвотное, а потом подвели к окну; в этот момент со двора уехала якобы та самая телега. Другой пациент считал себя мёртвым и не принимал пищу. Тогда врачи инсценировали похороны его знакомца. Лёжа в гробу, тот прекрасно закусывал, убеждая тем самым, что на том свете можно тоже неплохо позавтракать. Больной внял его примеру и вернулся к пище.
В августе 1825-го, примерно через год после водворения Батюшкова в клинику, в Зонненштайне проездом побывал Александр Иванович Тургенев. “В 8 часов утра, – записал он в дневнике, – приехали мы в Пирну и, оставив здесь коляску, пошли в Зонненштейн по крутой каменной лестнице, в горе вделанной. Нам указали вход в гофшпиталь, и первый, кого мы увидели, был Батюшков. Он прохаживался по аллее, вероятно, и он заметил нас, но мы тотчас вышли из аллеи и обошли её другой стороной”.
Парковые аллеи сохранились, и можно представить, что старые дубы, которыми они обсажены, помнят в юности маленького человечка, бродившего меж ними. Кирха, где молились больные, сейчас заброшена, но Батюшков вряд ли посещал её. В приступах мании величия он почитал себя святым и даже отпустил бороду, чтобы походить на старцев-отшельников.
“Выбитый по щекам, замученный и проклятый вместе с Мартином Лютером на машине Зонненштейна”, – писал он Жуковскому. “Утешь своим посещением: ожидаю тебя нетерпеливо на сей каторге, где погибает ежедневно Батюшков”. Действительно, спустя год Жуковский, одну зиму живший в Дрездене, навестил поэта. Из людей прошлой жизни он оставался едва ли не единственным, к кому Батюшков не испытывал раздражения или неприязни. Что касается сестры Александры, она будет жить в доме доктора практически как свой человек. Когда надежда на выздоровление брата растает, болезнь проснётся уже в самой Александре Николаевне. Она вернётся в Петербург в 1826 году – в дом Муравьёвой, где тоже царит горе, ведь оба сына Екатерины Фёдоровны, декабристы, ушли в каторгу. Одно отчаяние сойдётся с другим; болезнь усилится; несколько лет она проживёт в безумии и умрёт на руках у пошехонской дворни в собственном именьице. Впрочем, Батюшков о смерти сестры ничего знать не будет.
Как уже говорилось, причиной родового проклятия Батюшковых были близкородственные браки. Напомним, что при такой болезни связь между миром и больным человеком подменялась связью больного с образами и психозами, накопленными в подсознании; больной как бы проецировал их на мир, “объективировал” – как это происходит с человеком, который находится в состоянии наркотического опьянения, например. В таком состоянии внешняя жизнь становилась зеркалом для внутреннего мира, а вся конструкция напоминала Уробороса – змея, который свернулся в кольцо и кусает себя за хвост. Смерть наступала от общего нервного или иммунного истощения. Бессонница, отказ от еды, психозы, срывы: в таком состоянии любая простуда могла стать фатальной. Скорее всего, именно так умерла мать поэта, а потом и Александра. Самого Батюшкова от “быстрой смерти” спасло только богатое поэтическое воображение и обширная образная память, запасами которых безумие поэта “питалось” без малого три десятилетия. Именно столько Батюшков прожил после возвращения из Зонненштайна.
В Москве его поселят в Грузинах на Пресне – в маленьком домике с садом. Наблюдать поэта оставят всё того же Антона Дитриха, который к тому времени настолько проникнется творчеством Константина Николаевича, что начнёт понемногу и сам переводить с русского. Однако наблюдение Дитриха не может продолжаться бесконечно и спустя пять лет по настоянию Муравьёвой родственники решают перевезти Батюшкова в