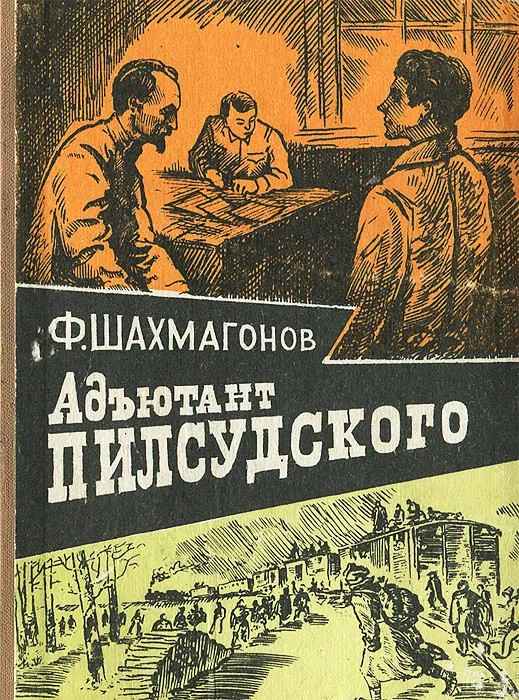к себе.
– Ты что! – прошептала она, отталкивая его, но как-то не сильно, не уверенно, не до конца.
– Не надо, Егор…
Он снова прижал ее, и подняв слегка на руках, поцеловал в маленький твердый сосок. Ее глаза расширились, руки беспрестанно шарили по его спине, вроде бы отталкивая его, но в то же время как будто и не отпуская, пока вдруг бездвижно и уверенно легли на плечах. Она запрокинула голову, как-то внутренне отстранилась. Сглотнула, закрыла глаза. Он запутался лицом в ее мокрых, пахнущих забытой яблоней волосах. Сердце колотилось так сильно, что он ничего не слышал, звуки превратились в один удар молота в висках. Он выплевывал ее волосы, руки неловко шарили по телу, она шептала:
– Не надо…
Он прижал ее к волнорезу, и целовал, целовал, как найденное сокровище, как хрупкую драгоценную вещь, боясь сломать ее, боясь передавить, обидеть.
– Не надо, – тихо повторяла она то как пойманная мышка, то как дикая кошка, и это неопределенное слово мешало ему сильнее, чем узел привязанной к волнорезу веревки, это слово было хуже, чем «да» или «нет». Он хотел подвинуться чуть ближе, но вдруг оступился, не устоял, и съехал вниз, по мокрому скользкому мху волнореза, в воду.
Когда он вынырнул на поверхность, она заливисто хохотала.
– Не справился! – Легко взобравшись по веревке на теплый бетон волнореза, она достала из сумки платок, вытерлась наспех.
– Господи, какая ты красивая! – Он смотрел на нее снизу.
– Ты извини, мне пора. Мама наверное волнуется.
Он выбрался из моря, подошел к ней сзади. Обнял ее, поцеловал.
– Прости, что я…
– Ничего. Хорошо, что так вышло.
– Почему?
– Только боль причинять. Мы же в разных мирах живем.
– Возвращайся.
– Куда? В ваш Задрипанск? Уж лучше вы к нам.
– А ты меня будешь ждать?
– Егор, ты серьезно? – Она повернулась к нему, ее глаза заблестели. – Я столько раз слышала слова, за которыми ничего не было. Ну как ты приедешь? В гости? Что ты умеешь? Кем будешь работать? На рынке торговать? Там же другая жизнь. Там все вкалывают.
– Кем-нибудь устроюсь. Дворником, например.
– Чтобы работать в Москве дворником, нужно иметь родителей-москвичей. Чтобы квартира была. Иначе ноги протянешь.
– Тебя быт заел? Или ты просто не хочешь, чтобы я…
– Если честно, я боюсь.
– Раньше мы ничего не боялись…
Она вздохнула.
– Я хотел извиниться перед тобой, – продолжил он. – За те слова, про твоего… Папу. Я не знал, что так выйдет.
– Не в этом дело. Он тогда просто сорвался… Но, понимаешь, женщина чувствует по-другому. Ей нужен мужчина, а не набор талантов, умник или гитарист. С тобой хорошо, но… Твоя любовь пахнет полынью. От нее веет одновременно и ветром свободы, и горечью. А ведь весь мир – он же только для двоих. Любовь – она же вмещает все, больше просто ничего не нужно. Ничего и никого. Двое – это весь мир. Разве ты не помнишь, как я тебя ждала, когда ты уходил с друзьями? Тебе нравилось, что у тебя есть девушка. А когда она надоедает, можно уйти к друзьям. А что она чувствует, ты не думал?
– Значит, списан со счетов? Не годен к строевой, и в разведку ты со мной не пойдешь? – Том старался, чтобы его голос звучал как можно бодрее.
– В разведку? В разведку пошла бы. А жить… Жить – это куда сложнее.
– Я изменился. Я многое понял.
– Когда человек меняется, то он становится другим, и это видно сразу. Это чувствуешь.
– Зачем тебе другой? Что мне потом делать с самим собой, если я стану другим?
– Егор, я тебе о смысле, а ты о словах.
– Наверное, ты права. – Том тяжело вздохнул. Помолчал, пусто посмотрел в воду. – Мы разные, но мне тебя… Я сейчас на даче живу. Когда хожу купаться, то вижу ваш дом. Он совсем заброшен.
– Мы так и не нашли покупателя. Ни у кого нет денег. А вообще, это единственное место, по которому я скучаю. Эх, ладно, мне пора. Спасибо за теплый вечер!
– Я тебя провожу.
– Пошли. Я в санатории живу.
Они поднялись с пляжа на дорогу и медленно пошли вдоль моря. Набережная встретила их шумом, смехом, музыкой. Том вдруг понял, что это их последняя дорога, в один конец. Что, видимо, больше они никогда не увидятся. Он старался идти как можно медленнее, ненавидя время, чувствуя себя лишним, кровавым лоскутом, наскоро пришитым кем-то жестоким к чужой жизни, ненавидя свою беспомощность, и не в силах ничего изменить. Набережная истекала, как песок в часах, таяла как неверный снег, и, наконец, иссякла. Светка остановилась у ворот. Охранник в будке мирно посапывал.
– Ну, вот мы и пришли.
– Может, свой адрес чиркнешь? – спросил он.
– Зачем? Не усложняй все. Если не суждено – то не суждено. А если суждено, то и в третий раз свидимся. – Она улыбнулась, пошла к себе, как вдруг, неожиданно повернувшись, обняла его за шею, и крепко поцеловала…
Он как стоял навытяжку, так и остался стоять, и только потом поднял руки, обнял ее, закрыл глаза, прикоснулся к ее мокрым от слез щекам…
– Пока, – сказала она, и, не оглядываясь, поспешила по аллее к белому корпусу санатория.
– Я буду ждать тебя. Хоть два миллиона лет! – крикнул он вслед, прислушиваясь к своему натужно веселому голосу. Постоял, оглянулся вокруг, плохо понимая, где он, и куда ему идти в этом потускневшем мире. Брести ли назад, на Зеленку, чтобы забыться сном, или тянуть до утра этот странный вечер, вспоминая ее затихающий в прошлом голос, ее смех, ее запах. Или надраться в стельку, чтобы не оставаться один на один с самим собой, пустым и одиноким, как нежилой дом.
– То ли сон, то ли явь. Будто не со мной все было. – Он еще раз оглянулся и медленно пошел на звук гитары.
Неподалеку от санатория тесной кучкой сидела компания волосатых. Он стал рядом.
– Эй, братишка, это не ты сегодня на Пятаке играл? – спросил кто-то.
– Вот она, слава, – сказал Том и непроизвольно улыбнулся.
– Я Кот, из Донецка. Мы только что приехали, а где тут вписываться, – не в теме.
– На Зеленке все стоят. – Том безучастно махнул рукой на восток.
– А туда далеко?
– Пару батлов.
– Значит, недолго, – Кот засмеялся. – На, хлебни.
Он передал ему бутылку портвейна.
– Сыграешь?
Том взял гитару, и вдруг вспомнил свежую песню Дрима, которая вдруг оказалась так к месту.
Мне бы солнце в ладонь, а ветер в карман, —
Был бы молод и счастлив, и горя