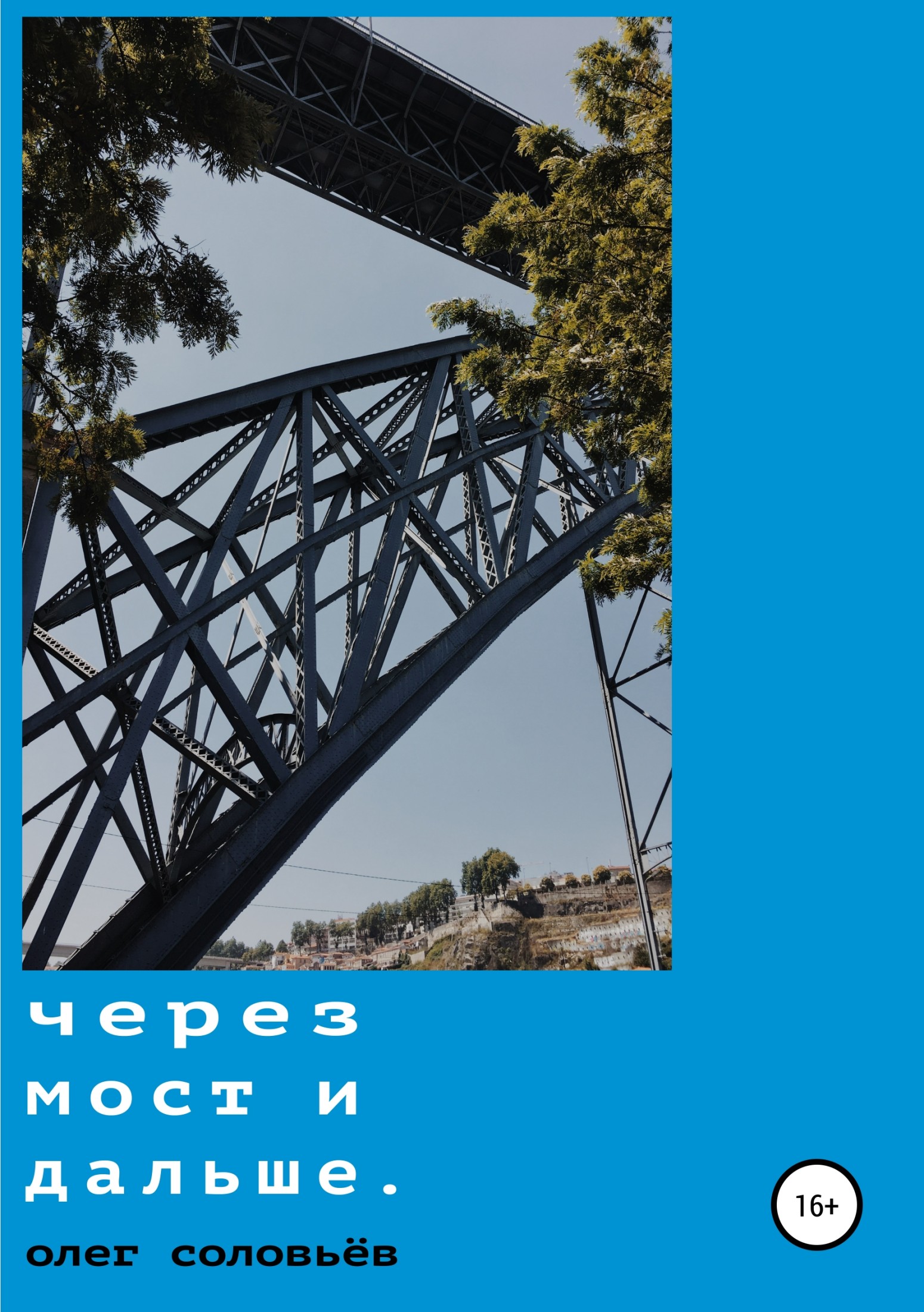свидания! Еще раз спасибо.
– Пожалуйста.
– Передавайте от меня привет Юрию Алексеевичу.
– Передам, Олежа, передам. Удачи тебе! Будь аккуратнее, – с капающими на морщинистые от улыбки щеки, произнесла Елена Матвеевна.
– До свидания!
За дверью осталась торжественно одетая бабушка, слезы которой смыли радость от солнечных лучей. Я посмотрел на фотографию на венке: «Значит, будем знакомы, Олег» Мне было до боли жалко старушку. И я не мог представить, каково это, ощущая близкую смерть, оглядываться назад и видеть там ее же. Каково это не суметь смириться.
Вдруг я заметил на лестнице двух мужиков. Один из них говорил другому:
– Слышал последние новости?
– Слыхал.
– Ух как наш президент их место поставил!
– Да он им показал, кто мы такие. Советский Союз раньше боялись. И сейчас пусть боятся, – оба разразились самодовольным хохотом.
– Да у них же техника вся в нашей грязи потонет, если сунутся.
– Или замерзнет. А мы-то к этому готовы!
– По одному отстреливать будем. А потом и по Нью-Йорку бахнем!
– А мы можем! – мужики снова расхохотались.
– Разрешите, – сказал я.
– Да-да, проходи, дружище, – сказали они вразнобой.
Я прошел мимо запаха перегара, почувствовав острую боль. Эти разговоры лишь дополнили мою нелюбовь к патриотизму, который у нас, так принято, граничит с массовым самолюбованием. Потому как раньше воевали за мир, вынужденно и боясь. Теперь же страх карался, а поэтому и рассудок тонул в бесстрашии. Под двумя боровами лежали окурки, рядом с которыми были разбросаны лепестки с венка. Плевали они туда же. И я вновь убедился, что до мира нам далеко, тем более до нормального. С этими мыслями я поднимался на шестой этаж, а солнце провожало меня, пытаясь пробудить жизнерадостность.
Светило, казалось, не собирается покидать этот день. Оно так и норовило пробиться сквозь окна. Оно слепило глаза. Оно было, и с ним сложно было бороться. Впрочем, и не хотелось. Лестничная клетка шестого этажа была словно расписана под хохлому. Во всю стену красовался рисунок жаркого лета. На нем были деревья, большие озера, птицы, дети и, кажется, сама жизнь. Глядя на стены, хотелось улыбаться, вдыхать свежесть и теплый ветер. Непонятно зачем, но я глубоко вдохнул. Наверное, чтобы почувствовать чарующие запахи летних дней. Но единственное, что я почувствовал – раздражение в носу. Я чихнул и сквозь прищуренные глаза увидел еще один элемент картинки. Я совсем забыл о главной летней напасти. Это был тополиный пух. Пусть только нарисованный, но он так отчетливо напоминал о себе. Это же была просто пыль. Я пару раз шмыгнул и продолжил оглядывать этаж.
В одном углу стояли цветы. Кажется, они стояли на каждом из этажей выше второго. Не удивительно – чего только бабушки не тащат с рынков и неохраняемых клумб. В другом углу стоял аквариум, полный диковинных рыбок. Преимущественно он переливался золотистым блеском, но там были и черные металлические силуэты, и красные с белым, будто игрушечные, рыбки, и перламутровые королевы, поражающие размерами, и совсем небольшие серые мальки. Они жили в своем водном мире. Они ежедневно наблюдали лето, и никогда не чувствовали холода. У них была своя размеренная жизнь. Пусть и в четырех прозрачных стенах, но они, наверное, довольствовались этим.
Я думал о том, что до крыши мне еще совсем далеко. Да и не хотелось расставаться с этим пейзажем, пусть и нарисованным на обычной медленно разваливающейся хрущевке. Здесь жило само умиротворение. Так я думал, пока дверь одной из квартир не открылась и оттуда не вышел замученного вида студент.
– Шолом! – кинул он и двинулся к окну.
– Шолом. – ответил я.
Он закурил. Мне все еще было тяжко от разговора с Еленой Матвеевной, и я обратился к нему с просьбой:
– У тебя не будет сигареты?
– Да, держи.
– Спасибо, – я прикурил от спички.
Я еще несколько секунд не решался спросить, да и не видел смысла в этом, но наконец, чтобы избавить нас от гнетущей тишины, я внезапно выпалил:
– А ты не знаешь, что случилось с квартирой ниже? Ну, с той, которая горела.
– Ну, – он начал припоминать. – ее вроде подожгли, как мне говорили. Из личных соображений. Хотели выкурить соседку с ее сыном, а потом квартиру себе забрать.
– Родственники, что ли?
– Вроде того.
– Кровные узы не обязывают к уважению, да?
– Ага. Оказалось, что бабушки этой не было дома. А сын ее был. Он вещи пытался вынести, кота вынести, да все подряд. Тушить пытался. И в итоге сгорел сам. Вот так вот.
– В общем, вещи спас, а себя не смог.
– Как-то так.
– Люди дичают в последнее время, не замечал?
– А как же. Все, начиная с обычных, казалось бы, работяг, до глав государств, дети и старики, порой даже животные – все с ума сходят.
– То ли у всех разом лыжи перестали ехать…
– Вот-вот. Сейчас как раз пишу об этом.
– Пишешь? – я удивился.
– Ну, рассказ, – он замялся. – ничего особенного, бред бредом, не обращай внимания.
– Да я просто сам пишу. Поэтому удивился, – я сделал паузу. – и как успехи?
– Потихоньку, – он докурил. – еще по одной?
– Ну, давай. Нервы, что ли?
– Их уже нет, – он прикурил сигарету и протянул спичку мне. – сессия все съела.
– Да ладно, все сдашь. Всегда так. Так даже, наверное, должно быть – сначала переживаешь, мечешься, а потом сдаешь. Иначе бы так не радовался.
– Наверное.
– Ну, я вот не радовался. Я все сдавал и знал. И не было у меня сессий как таковых.
– Мне бы так.
– А вот черт его знает. Ты на каком курсе?
– На первом.
– Тогда вообще не переживай. Дальше – проще.
– Буду надеяться.
Мы докурили, перекинулись еще парой слов и попрощались. Перед тем, как уйти, он вынес мне бутылку пива. Это было добрым жестом и мне все больше начинал нравиться этот подъезд. Голова кружилась от первой за день сигареты. Пейзажи стали чуть реалистичнее, а на озерах как будто начали появляться волны. Я снова увидел тополиный пух, нарисованный с фотографической точностью, чихнул и начал подниматься выше, туда, откуда слышалась музыка.
Студент был одним из самых положительных героев моего небольшого путешествия по этому подъезду. И что удивительно, он писал. В нем бушевал странный энтузиазм, амбиции лились через край, а желание было заметно невооруженным взглядом. Наверняка он начал писать не так давно. Это самые лучшие времена, когда только-только находишь свое дело. Ты видишь в нем свою жизнь, тратишь месяцы на то, чтобы довести до идеала банальную писанину, потому что веришь в то, что делаешь. И ведь в написанном чувствуется душа.
Только студент