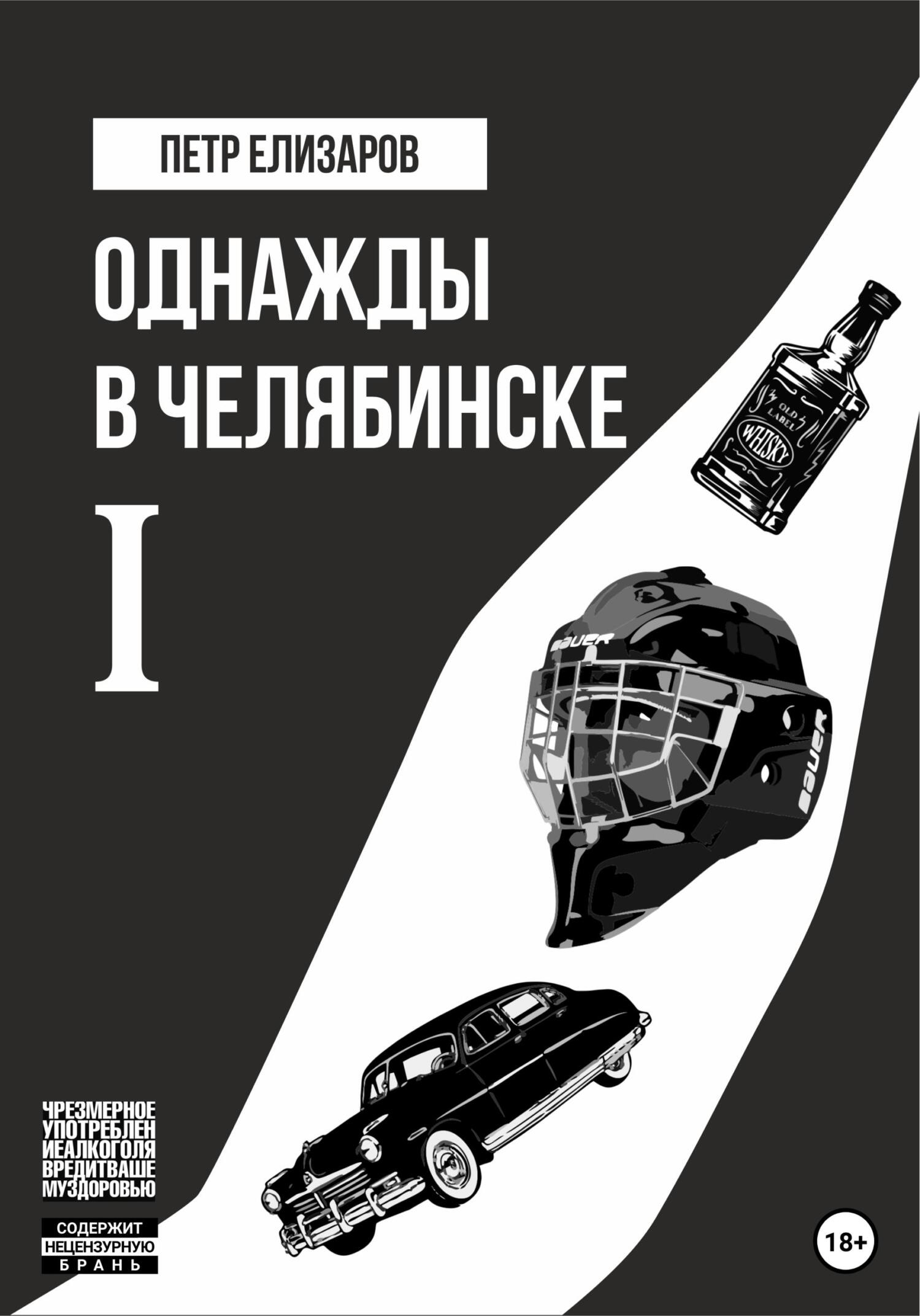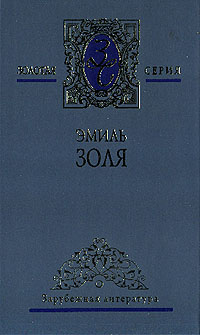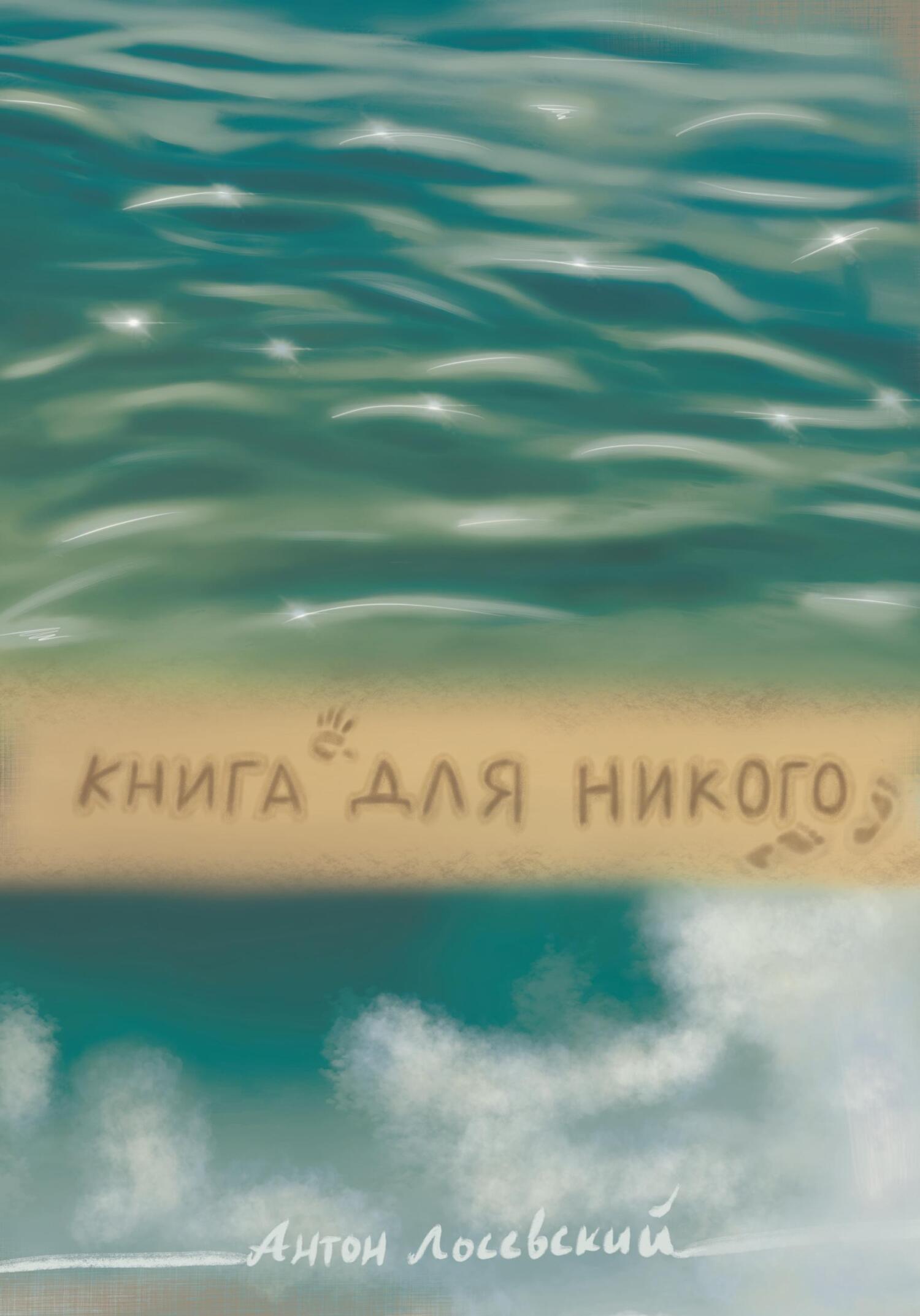вовсе не пьяны, Корнилов же подумал: «Плохо, плохо! Раньше этого не было – пьяные мужчины, рабочие и в рабочее время?!» – и настроение почему-то поубавилось, спало, непонятно – почему. Его-то какое дело, он, что ли, пьян?
А тут и еще: на Зайчанской площади, около Богородской церкви, подражая нищим, какие-то мальчишки-оборванцы, беспризорники, должно быть, громко пели дурацкую, но почему-то распространенную в последнее время песенку:
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел по улицам гулять,
Его поймали,
Арестовали
И приказали
Расстрелять!
Мальчишки пели, горланили, особенно один из них старался – высокий, тощий, со ссадинами на обветренном лице, – и не знали, зачем? Зачем цыпленка поймали? Арестовали? И приказали расстрелять? Жареного-то и пареного?
Все-таки в Верхнюю Веревочную Корнилов вернулся совсем не таким, каким из нее вышел часа три тому назад, тем более что он и еще сделал большой круг, внимательно осмотрел домик на улице Локтевской, № 137, с новенькой и высокой голубятней-башней во дворе, потом он вышел на пустырь, испещренный коровьими тропками, с кустами боярышника, разбросанными там и сям, с речушкой Аулкой – она подгрызала свои песчаные берега. Постояв тут, на бережку, Корнилов перешел Аулку по мосткам из двух досок, поднявшись в гору, миновал бор, дачи нэпманов Морозовых, Вершининых, Ладыгина, Полякова и вышел к Верхней заимке, к высоченному яру реки, в ту местность, которой владел уже не свой собственный вид и пейзаж, а вид и пейзаж Той Стороны, та даль, которая открывалась отсюда...
Подходя к своей избе, Корнилов уже ничуть не сомневался, что застанет там изнывающего в ожидании Уполномоченного УР.
Уполномоченный спросит его – где и почему он так долго отсутствовал, Корнилов же ответит, что он под арестом все еще почему-то не находится.
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный...
Он вошел в избу, там, на лавке, у оконца сидела Леночка.
— Наконец-то! Я думала – сбежал Корнилов. Завидно стало: сбежал! Ах, как хорошо, поди-ка, сбежать, как приятно! Но бритва-то вот она – лежит на подоконнике. Значит, не сбежал.
Корнилов никогда еще не видел Леночку такой усталой, такой разбитой.
«Роковой год Леночкиной жизни! – Догадался он. – Июнь, а этот год уже успел совершиться!»
А Леночка плакала и не замечала, что плачет, лицо неподвижно, не выражает ничего, даже горя. Пустое лицо.
— Здравствуйте... – сказала чуть спустя Леночка. – Я сейчас! – Она расстегнула верхнюю пуговичку замызганной кофтенки и опустила руку на колени. Снова руку подняла, расстегнула вторую пуговичку и достала из-за лифчика желтоватый, сложенный вчетверо лист бумаги.
Корнилов подумал: «Неужели!», и догадка оказалась правильной: это был «ПРИКАЗ № 1»!
— Да? – только и спросила Леночка.
— Да! – подтвердил Корнилов. – Да. Это мне знакомо!
— Следователь уже предъявлял? Что же теперь делать? Бежать? Оправдываться? Я думала – вы уже арестованы, но тут бритва на подоконнике. Бритву-то вам бы позволили взять с собой?
— Леночка, ты веришь этому? Приказу?
— Если бы верила, зачем бы я принесла это вам? Сами написали, сами и оправдывались бы. Мое-то дело какое было дело? Вы по-свински недогадливы, Петр Николаевич! Даже стыдно это объяснять...
— И не надо объяснять, Леночка. Но ты ведь знаешь, что далеко не все обо мне знаешь?
— Так ведь все из-за этого и произошло – из-за того, что вы скрывали себя от меня! Все-все! Ведь почему нам не было хорошо, не могло быть хорошо на улице Льва Толстого, в вашей прекрасной, в вашей нэпманской квартире? Помните? Только потому, что вы многое скрывали, а мне никогда-никогда не может быть хорошо с человеком, который скрывается от меня! Не знаю, что у вас за тайны, ваше дело, но вы хотели тогда только следующего раза между нами, а больше ничего, у вас даже и мысли не было и намерения не было хотя бы в ближайшее время рассказать о себе. Вы скрывали легко, просто, вот его и не было, следующего раза между нами, и не могло быть, но вы и этого не поняли – почему не могло быть? И все-таки, все-таки я знаю, что вы скрывали не это. Не эту бумажку! Нет!
— Ты знаешь, что это не я, – почему же ты так расстроена?
— А я не расстроена, Петр Николаевич, я убита. И так ужасно быть живой, после того как тебя убили. Мо-о-ой му-у-уж меня убил!
— Твой?
— Мо-о-ой! Это он поехал в Улаганск и привез оттуда бумажку – не одну, а несколько, много экземпляров. Одну он отдал вашему следователю. Мой му-у-уж был во время гражданской войны в Улаганске, он знал, что приказ висел там на всех заборах. И вот он нарочно пошел со мной к вам, навестить вас, больного, увидеть, тот вы Корнилов, улаганский, или нет, не улаганский. Он понял, что вы – не тот, но все равно поехал, все равно привез приказ и отдал следователю, и еще он сказал кому-то, какому-то начальству, что следователь ведет ваше дело слишком мягко, не по-партийному и никуда не годно!
— Для чего ему все это?
— Опять не понимаете? Чтобы вы не мешали нам любить друг друга! Ему – меня, мне – его. Вот и все! И вы знаете, от мо-о-его му-у-ужа ничего при этом не убыло, он ничего не почувствовал, он каким был, таким остался, но я-то?! Я-то обманута! Я-то обманулась, я уже не поняла, кто со мной, не поняла, с кем мне было так хорошо! Значит, я совершенно падшая женщина, если могу так обманываться! Я даже не знаю – кто я? Все еще женщина или уже нет? Человек – или уже нет? Немыслимо! Вы знаете, я имя свое забыла, утром задремала, проснулась, спрашиваю: «Кто проснулся-то? Как зовут?» – «Леночка Феодосьева!» – «Да не может быть – разве Леночка Феодосьева когда-нибудь любила подлецов?! Разве она могла так ошибаться! А если она так ошибается, значит, это уже не она!»
— Леночка Феодосьева – только одна на свете, что бы с ней ни случилось, как бы она ни ошиблась! А я, конечно, должен был все рассказать тебе, рассказать вам, Леночка, о себе. Должен был!
— Наверное, уже тогда во мне было что-то подлое, какая-то склонность, и вот вы подумали: «Не обязательно! И так обойдется, и можно