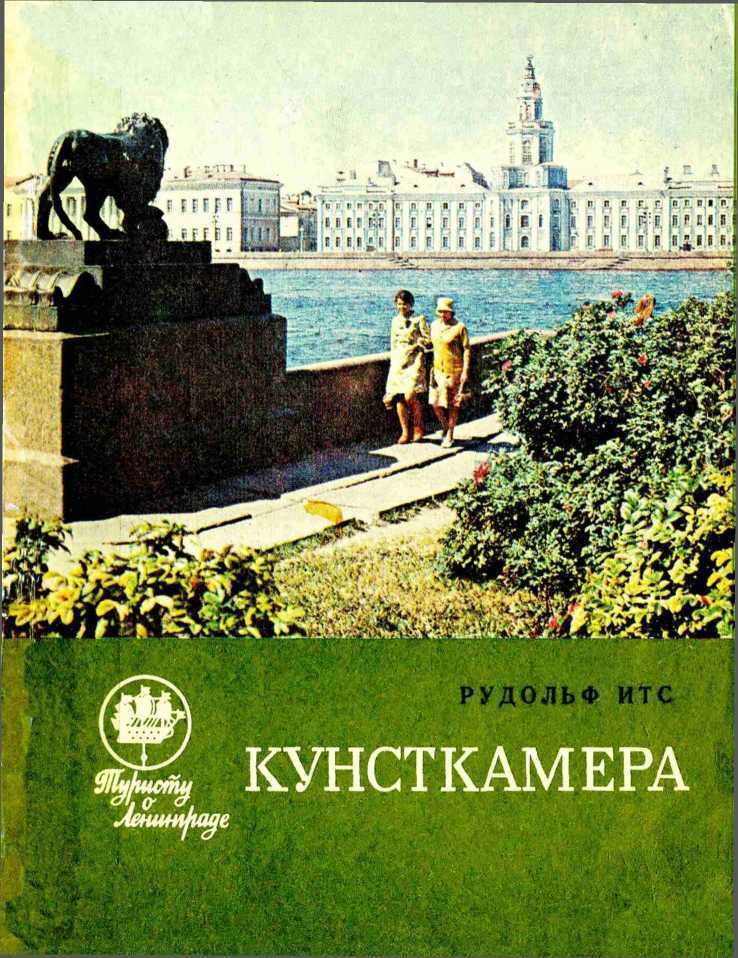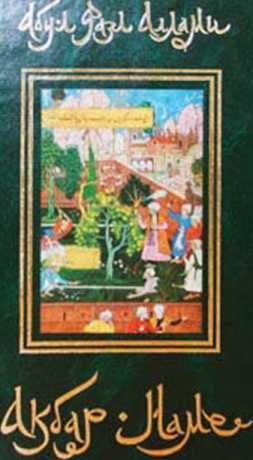вымечтанной, воображаемой с детства. С того момента, когда в пансионе у Триполи он впервые услышал итальянский. “Тень” и “пустоту” в Италии он ощущает особенно отчётливо. С чисто русским – страстным, эсхатологическим – чаяньем он жаждет, что родина Горация одарит его покоем и гармонией, чьи следы он с такой отрадой находил в поэзии классиков. Он мечтает, что земля Тассо и Ариосто наполнит воображение творческой энергией. Однако даже языка, на котором писали его любимые поэты – в Италии нет. Роскошная природа, которой он не устаёт восторгаться в письмах, будет только подчёркивать печальную пустоту сцены. В Италии творческий дух почти оставляет Батюшкова, в чём он и сам признаётся в письмах. Но тем ярче его последние вспышки, добавим мы. В виду “печальной тени”, которая всё более “окутывает” поэта, эти несколько последних стихотворений будут звучать особенно пронзительно.
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.
“Байя” это нынешние Байи, в Античности – термальный курорт на берегу Неаполитанского залива, где во дворцах и виллах проводили досуг императоры и придворная римская знать. Ко времени приезда Батюшкова большинство пышных сооружений давно исчезнет в море, уровень которого веками поднимался. Остатки патрицианской роскоши Константин Николаевич может наблюдать теперь только сквозь зелёную, как бутылочное стекло, воду. На первый взгляд перед нами стихотворение – жалоба на время, которое поглощает всё. Распространённый жанр. Новизна и оригинальность заключаются в том, как об утрате “золотого века” размышляет Батюшков. Например, как в первой строке сопоставляет то, что сопоставить невозможно: “ты пробуждаешься” – “из гробницы”. Ведь пробуждаться может только живое. Пусть воображение поэта способно оживить даже навсегда исчезнувшее. Пусть богиня утренней зари Аврора встаёт над Байями так же как тысячи лет назад. Пусть игра теней и света на воде в точности такая, какой её видели римские императоры. Но где жизнь, которая здесь была? Её не оживить. Некому отдавать “сияние протекших дней”. Всё стихотворение как бы пронизано безысходной неразрешимостью внешних и внутренних ощущений. Невозможно примирить воображение, которое, казалось бы, видит в руинах ожившие “рои красот” – и разум, сознающий, что “порфирны колоннады / Со дна не встанут синих вод”. Свет, цвет и запахи, которые за тысячи лет не изменились – и реальность человеческой жизни, не оставившей ни следа. Мечту о гармонии духа и тела, искусства и власти – с тем, что ничего этого больше нет и не будет. На вопрос Шиллера “Вот – ты стоишь предо мной и можешь коснуться святыни: / Ближе ли ты мне теперь? Ближе ли стал я тебе?” – Батюшков не сможет ответить. Античность для него не “ближе” или “дальше”, но отчаяние, охватывающее человека, когда он видит, что вымечтанный образ “золотого века” несовместим с тем, что видишь. Пустота, которую порождает в душе поэта творчество, не наполнятся на родине Горация. В пестроте и шуме современной итальянской жизни она только пронзительнее. Когда-то Батюшков воплощал античный образ через русскую реальность и собственный сердечный отклик. Подобное “оживление” давало, между прочим, поразительный эффект – поэтический язык Константина Николаевича обретал невиданную в русской литературе звучность, выпуклую и материальную зримость, почти осязаемость. Его стихи, казалось, можно рассматривать и даже трогать. Что если в этом и заключается его “античность”? Недаром ведь то время русской поэзии мы называем “золотым веком”?
Жаль, поэты редко осознают о себе подобные вещи.
“Под небом сладостным Италии моей…”
1.
В начале XIX века экскурсия по склонам Везувия занимала примерно столько же времени, что и сегодня. К вершине по серпантину весь день поднимались на мулах, дальше пешком или в носилках. И тогда, и теперь дорогу окружали виноградники. Между вязов и пиний встречались домишки виноделов. Вид на Неаполитанский залив открывался захватывающий.
По словам Аристотеля, виноград на склонах Везувия первыми высадили древние эолийцы, на языке которых сочиняли Алкей и Сапфо. А вино, которое будут делать в новое время, до сих пор называется Lacryma Christi.
Интимные движения души и сердца составляют дух эолийской поэзии; через несколько столетий он оживёт в стихах Горация, а через Горация и Державина (который, по словам Вяземского, Горация “не понимал, но угадывал”) – сформирует “маленькую философию” раннего Батюшкова. Правда, к моменту восхождения на Везувий философия его – силой обстоятельств – разрушена.
С каждым часом температура воздуха падает. Облака опускаются на землю, путники кутаются в плащи и накидки. Пахнет серой. На плато перед последним подъёмом, в долине, изборождённой руслами окаменевшей лавы – куда путешественники поднимаются только к полудню – они обедают в “сторожке пустынника”. Кем бы он ни был, разбойником в отставке или виноградарем, он кормит туристов молоком, хлебом и яйцами, а после обеда выносит книгу. В “книге отзывов” – в основном слова благодарности за кров и стол на немецком, английском, французском. Ни слова о самом вулкане, что и понятно: в виду великого Везувия любые слова ничтожны.
Среди записей автографы Гёте и Гамильтона. Стендаль. Несколько слов любимого Батюшковым Шатобриана. Автограф самого Константина Николаевича.
Точно так, как Тиверий, которого остров пред моим окном, не знал с чего начать послание своё к сенату, – так я, в волнении различных чувств, посреди забот и рассеяния, посреди визитов и счетов, при безпрерывном крике народа, покрывающего набережную, при звуке цепей преступников, при пении полишинелей, лазаронов и прачек, не знаю, не умею, с чего начать вам моё письмо.
(К.Н. Батюшков – А.И. Тургеневу из мартовского Неаполя)
Лазаронами называли босяков и нищих, отиравшихся в квартале Меркато – как правило, в обносках наподобие прокажённого Лазаря из Евангелия от Луки. Они же могли быть и “гидами” по Везувию.
После обеда подъём продолжается пешим ходом. Вид со склона – в разрывах вулканического пара и облаков – головокружителен. Здесь воет холодный ветер, земля покрыта бесформенными глыбами. А внизу на зеленоватой, искрящей в лучах воде залива – встают, облитые светом как декорации в театре – острова Иския и Капри. На горе всё хаос, всё смерть. Внизу – книга, исписанная белыми буквами парусных лодок, – книга гармонии, книга жизни.
“Прелестная земля! Здесь бывают землетрясения, наводнения, извержение Везувия, с горящей лавой и с пеплом; здесь бывают, при том, пожары,