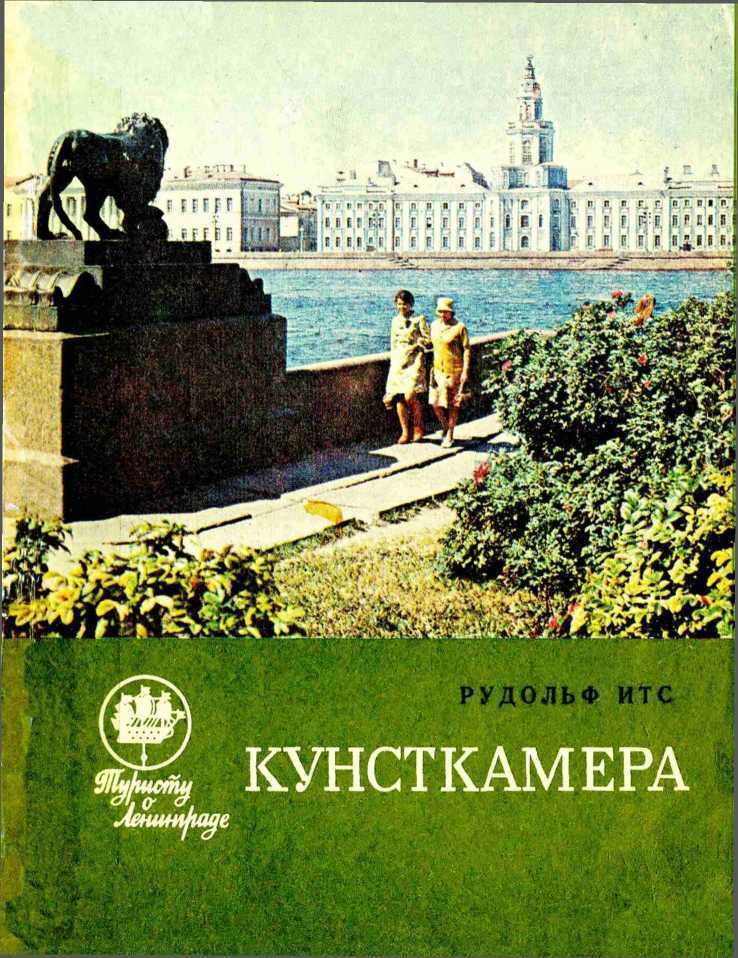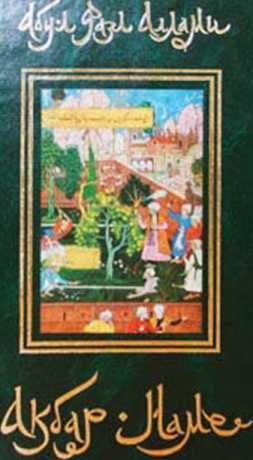же и возвышающая.
Совершенно иначе подходит к “проблеме античности” – Гёте. В классической Вальпургиевой ночи перед нами проносится взвихрённая череда греческих богов и духов. Однако “эстетик” Фауст смотрит в другую сторону. Он занят поисками Елены. Античность для него не духи и нимфы. А вечная красота человеческой плоти; полнота её проявленности, а значит истинности, ведь для грека и Гёте истинно то, что обладает гармонией, и обратно. Гёте окажется в Риме, когда Батюшков только-только родится. Сперва он будет практически повторять за Шиллером: “Камни, ответьте, я жду! Дворцы, скажите хоть слово! / Улицы, полно молчать! Гений, очнешься ли ты?”[66] В “Римских элегиях”, написанных античными размерами, множество подобных вопрошаний. Но если Шиллер ставит знак вопроса, Гёте – поэт ответов: “Но переменится все, и скоро я, посвященный / Стану в один только храм – храм Купидона – ходить”. Любовная история, роман с юной римлянкой. И вся языческая античность вдруг оживает, и толпится вокруг любовного алькова. “Мы, влюблённые, набожны: демонов чтим потихоньку”, – признаётся Гёте. – “Всех богов и богинь милость хотим заслужить”. Это и есть его наука античности, ведь “…рукою скользя вдоль бедра иль исследуя форму / Этих прекрасных грудей, разве же я не учусь?” Например, истинному переживанию античной скульптуры, чьи гармоничные, точные, размеренные формы учат глаза осязанию, а руки – зрению. Задолго до современных поэтов Гёте сочиняет стихи, выстукивая ритм, “у неё по спине пальцами перебирая”. “Рим, ты один вместил целый мир; но любовь отнимете – / Миром не будет мир, Римом не будет Рим”. Что и верно, если прочитать итальянское Roma в обратную сторону.
Одновременно с Батюшковым по Италии путешествует Перси Шелли. Их разница в возрасте всего пять лет. Мировоззренчески перед нами разные люди, но в интенсивной завороженности античным наследием и Батюшков, и Шелли – схожи. Лирическая драма Шелли “Прометей” только отчасти следует за греческим мифом. В финале никакого примирения с Зевсом не наступает. Наоборот, тиран повержен, а торжествующий Прометей ведёт человечество в светлое будущее свободы, любви и братства. Есть античный сюжет, а есть социальная утопия Шелли, и мы хорошо видим, как они смешиваются. Схожую “оптику” Шелли демонстрирует применительно и к другим эпохам. В Ферраре, где несправедливо томился великий Тассо, он с благоговением отщепит от дверей его темницы щепу. Для Шелли история великого поэта есть история вопиющей и неотмщённой социальной несправедливости. А для Батюшкова Тассо остаётся символом экзистенциальных невзгод, которые любой поэт словно притягивает на свою голову “от щедрот” Фортуны. Впрочем, у Шелли есть множество исключительно итальянских наблюдений. Например, в одном из писем он точно подмечает, что гумно итальянских крестьян “…не имеет навеса; подобно описанному в «Георгиках», оно трамбуется обломком колонны, и ни крот, ни жаба, ни муравей не найдут в нём ни единой трещинки, где они могли бы приютиться”.
Вспомним и Джона Китса, также окончившего дни в Италии – в римском доме с окнами на Испанскую лестницу, по которой за два года до его гибели поднимается Батюшков. В судьбах двух поэтов есть знаменательные переклички. Оба рано осиротели, оба едва сводили концы с концами, оба жили в страхе родовой болезни, Китс – чахотки, Батюшков безумия. Почти одновременно вышли у них и первые книги стихотворений; обоим одинаково при жизни не довелось вкусить полноценной славы. Однако в области античного переклички заканчиваются. В наследии древних Батюшкова завораживает “золотой век” – короткая эпоха рубежа старой и новой эры, когда власть и капитал (Август – Меценат), капитал и искусство (Меценат – Гораций) так удачно гармонизировали друг друга, напоминая Батюшкову о лучших годах правления Екатерины. А Китса в искусстве древних завораживает побеждающая время Красота, идею которой он воспевает в знаменитой “Оде греческой вазе”. Расходились они и в темпераменте, тоже, видимо, обусловленном болезненностью. Умирающий от чахотки, обречённый Китс славил неувядаемость древнего искусства – а заболевающий Батюшков видел в руинах “золотого века” лишь свидетельство всепожирающей силы Времени и Смерти, “святого Косаря” – и скорбел об его утрате. На могиле Китса в Риме написано “Здесь лежит тот, чьё имя написано по воде”.
Батюшкову подошла бы такая эпитафия.
Количество античных реминисценций и цитат – в письмах, стихах и очерках Батюшкова – несметно. Исследователи до сих пор отыскивают новые отзвуки Овидия, Вергилия, Гомера. Очевидно, что из двух “античностей” Батюшкову ближе италийская, чем эллинская, ведь древнегреческого он не знал и пользовался пересказами на французском. Зато латинские стихи цитируются обильно и, главное, уместно, точно. Перед поездкой в Одессу он читает переводы из Еврипида и Геродота. Он знает не только новый перевод “Илиады” Гнедича, но и старый Ермила Кострова. Однако мир древней Эллады часто служит ему как бы фоном. Сценой, где поэт разыгрывает собственный спектакль. В большом стихотворении “Странствователь и Домосед” – о двух братьях-греках, двух характерах, двух темпераментах – есть множество довольно ироничных и точных “уколов” в адрес Пифагора с его практиками многолетнего молчания и атараксии; есть точные эллинские локусы. Однако пафос стихотворения совсем не “греческий” и даже не вольтеровский (хотя батюшковский Странствователь чем-то напоминает Задига). Нет, честолюбивый, беспокойный, охочий к перемене мест и вечно неудовлетворённый мечтатель Филалет – во многом наделён свойствами самого автора, чья жизнь прошла и в дороге, и в погоне за химерами любви и славы. Его идеалом мог бы стать Гораций, чью независимость от мнения толпы и сильных мира сего Константин Николаевич ставил себе в пример так часто. Подобно Горацию он искал уединения и свободы. Но если Хантаново и казалось ему приютом пенатов, то ни Делия, ни Глицерия так и не заглянули под его кров. Да и с меценатами у него ничего не вышло. В одном из очерков он набросает психологический портрет любимого поэта, и этот набросок как нельзя лучше подойдёт и к Филалету, и к самому Батюшкову. “Нигде не мог он найти спокойствия, – пишет он о Горации, – ни в влажном Тибуре, ни в цветущем убежище Мецената, ни в граде, ни в объятиях любовницы, ни в самих наслаждениях ума и той философии, которую украсил он неувядаемыми цветами своего воображения; ибо если науки и поэзия услаждают несколько часов в жизни, то не оставляют ли они в душе какой-то пустоты, которая охлаждает нас к видимым предметам и набрасывает на природу и общество печальную тень?”
Писание стихов подобно путешествию, по возвращении из которого привычные “видимые предметы” кажутся пустыми или окутанными “печальной тенью”. В реальную Италию Константин Николаевич не приезжает – он возвращается сюда из Италии