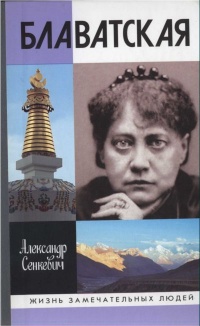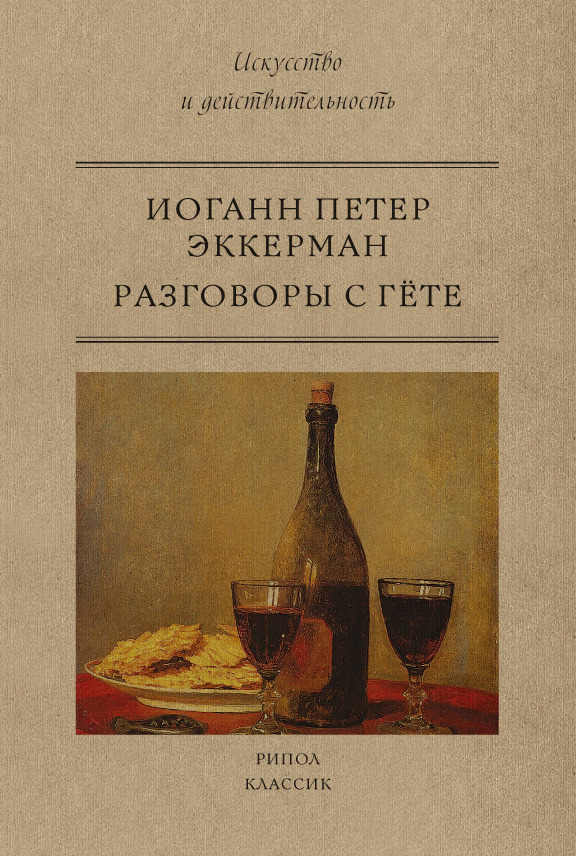Зимакова. 1 /X — 62 г.”»13.
К тому времени комсомольская организация ходатайствовала об исключении Зимаковой из института «за порочащую связь» с Ерофеевым. Её персональное дело дошло до бюро горкома ВЛКСМ, где за неё заступился член бюро В. ЕЁ Колесников, студент ВГПИ. После этого комсомольское собрание группы Я-41, в которой училась Зимакова, приняло 4 октября 1962 года компромиссное решение:
«“Заслушав и обсудив поведение комсомолки Зимаковой В., собрание постановило:
1. Оставить студентку Зимакову в институте, но с тем условием, что она никогда не будет встречаться с Ерофеевым.
2. При первой же попытке встретиться с ним студентка Зимакова будет исключена из института без особого предупреждения.
3. За аморальное поведение объявить комсомолке Зимаковой строгий выговор с занесением в личное дело.
Комсорг Сидорова”.
Таким образом, Зимакова осталась в институте и благополучно закончила его в 1964 году»14.
Читатель! Надеюсь, теперь ты понимаешь, откуда берутся хунвейбины.
Ещё раз подчеркну, что все репрессивные действия институтского руководства оказались возможны при одобрении студенческим большинством. Были проведены индивидуальные беседы с друзьями Венедикта Ерофеева, уклонившимися от единомыслия — нормы общественного поведения, повсеместно принятой в стране победившего социализма. Особенно строго разговаривала Раиса Лазаревна Засьма с теми из них, кто по собственной глупости или из-за непомерно высокого о себе мнения покушался на самое святое. То есть пытался заменить свет марксистско-ленинских идей беспросветным мраком богословских сочинений. Того, кто не внял увещеваниям, отчислили по собственному желанию. Так, Борис Сорокин написал 4 апреля 1962 года на имя ректора Б. Ф. Киктёва заявление: «Прошу отчислить меня вследствие неспособности моей быть педагогом»15.
Казалось, что ректор Борис Фёдорович Киктёв не жаждал крови этих ребятишек, мыслящих иначе, чем он. Не хотел «волчьим билетом» портить им жизнь. Поступал в силу своих возможностей по-человечески. Однако не ко всем, кто был знаком с Венедиктом Ерофеевым, он относился снисходительно. Вот что вспоминал Владислав Цедринский[327], который познакомился с Венедиктом Ерофеевым в 1962 году. Поступил он на факультет иностранных языков ВГПИ в 1963 году: «Ерофеев тогда был яркой фигурой — 24-летний красавец, похож отчасти на Дина Рида, но в сто раз лучше, потому что у него не было никакой конфетности. Отличался он добротой. Была в нём какая-то бережность по отношению к людям и снисходительность. Простая, русская, сильная натура. И такая огромная копна волос, в которой можно было сломать расчёску. Волосы русые, темнее пшеницы. Обут он был в каких-то тапочках со шнурками, и штаны-то у него были в общем коротковаты. А пиджачок был чуть ли не на майку надет. Но на таком теле, роскошном, гибком и сильном, что это смотрелось как царские одежды, а не как какие-то обноски. Во Владимире он жил в деревянной двухэтажной развалюхе, улица Фрунзе. Там, недалеко от лесной линии, стоят мрачные старые постройки, сто лет им. Это была коммуналка, зловещая и вонючая. Клоповник такой. Вот в этом доме Вадя Тихонов предоставил Ерофееву политическое убежище. Но я был совершенно никем. Я только что вышел из деревни... А потом поступил во Владимирский пединститут, из которого меня выгнали за Ерофеева. Он пришёл ко мне в общежитие, и об этом тут же донесли. А на следующий день меня вызвали в деканат и спросили: “А оказывается, вы знакомы с Ерофеевым?!” — “Да я знаком не только с Ерофеевым”, — ответил я. Но одной этой фамилии было достаточно, дальше меня слушать не стали»16.
Владислав Цедринский был инвалидом детства (костный туберкулёз). Его отец погиб во время Великой Отечественной войны. Воспитывала его мать, которая работала в торговле и отсидела полтора года в колонии. Отчим Владислава не работал. У него был старший брат Евгений, на нём-то и держалась семья. Институт был для Владислава надеждой. Евгений Шталь пишет: «Поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт. Учился на “отлично”, но после приезда к нему Ерофеева с друзьями был исключён. Ерофеев упоминает его в поэме “Москва — Петушки”: “...Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем” (глава “Орехово-Зуево — Крутое”). Цедринский знал французский язык, занимался переводами»17.
Владислав Викторович Цедринский прожил на земле 70 лет. Он не был баловнем судьбы. Весьма вероятно, что он, будь как все, ужился бы в любом педагогическом коллективе и даже занял бы в нём видное место. Да и Венедикт Ерофеев не особенно приближал его к себе, но относился к нему с нежностью. В одном из своих блокнотов 1973 года записал: «Мир, как Вадик Цедринский — мал, плохо склеен, скорбен, и только иногда натужно говорлив и бодр»18.
Евгений Викулов вспоминал об этом светлом и мужественном человеке: «Поступить в педагогический институт ему не составило труда: Владик был хорошо подготовлен. Основательно знал русскую классику, много читал зарубежной литературы. Умный читатель, он критически относился к прочитанному. Было интересно слушать его суждения. Я и сейчас вижу его бледное худое лицо, внимательные глаза за стёклами очков и часто появлявшуюся на тонких губах едва заметную ироническую полуулыбку. Жил он в небольшом посёлке недалеко от Владимира с матерью на скромную социальную пенсию. В его уединённой комнате было много книг — его любимых собеседников. Владик был мужественным человеком. Свою телесную немощь он преодолевал терпеливо и с достоинством. В домашнем деревенском быту умел многое делать самостоятельно: колоть дрова, топить печку, заниматься огородом, ходить в магазин, ездить во Владимир к друзьям. В те годы он был в кругу друзей Венедикта Ерофеева»19.
Что ж, знал ректор Борис Фёдорович Киктёв, с кем расправляться — с самыми беззащитными. Преподавал он философию, помимо педагогического института, окончил Областную партийную школу при Крымском обкоме ВКП(б) в Симферополе. В 1965 году был зачислен в состав работников Министерства просвещения РСФСР, направлен в резерв ООН и ЮНЕСКО в качестве эксперта. Неоднократно бывал за границей — в Китае, Болгарии, Греции, Чехословакии, Индии, Пакистане20. Самое страшное, что человек он был неплохой и не настолько запуганный, как Лариса Лазаревна Засьма. Вместе с тем при всём знании жизни и философской эрудиции оставался Борис Фёдорович практически слепым, пребывая в своём марксистско-ленинском догматизме. Для подобных людей незамысловатую метафору нашёл классик польской литературы Генрик Сенкевич в романе «Без догмата»: «Когда слепой, споткнувшись о камень, падает на дороге, он всегда клянёт камень, хотя, в сущности, в его падении виновата только его слепота»21.
Я не смею осуждать Б. Ф. Киктёва. Таковым было восприятие окружающего мира подавляющим большинством жителей нашей страны. Венедикт Ерофеев относился к мизерному меньшинству. Он уже тогда был отмечен величием духа и ума. Вот что понял Цедринский. И не только он один. Однако мало кто посмел продемонстрировать солидарность с Венедиктом Ерофеевым.