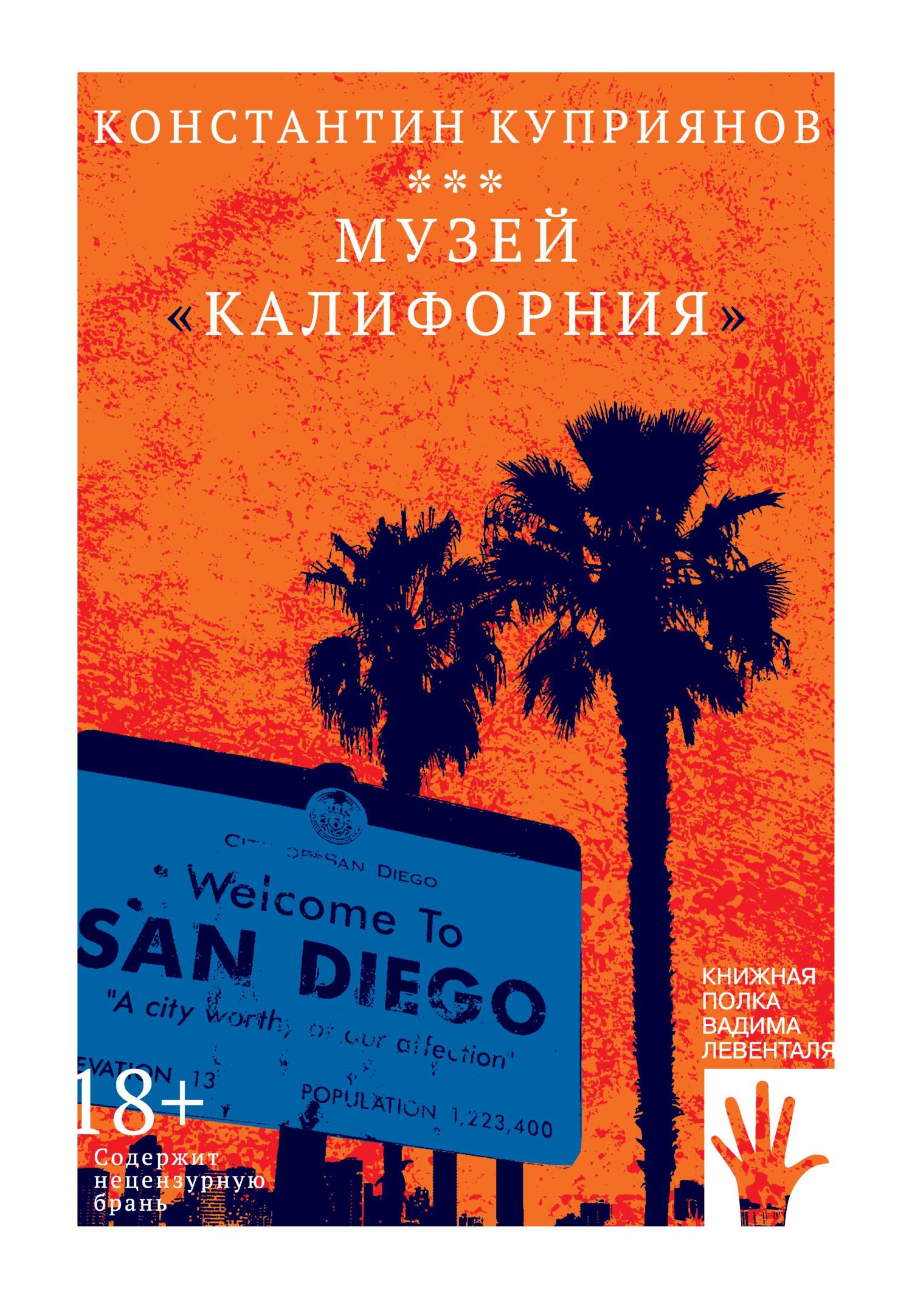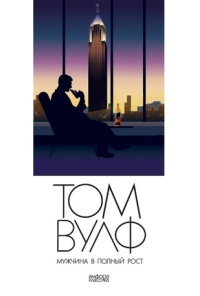композитор, вынужденный целый день трудиться, а потом в вечерней тишине выжимать соки из своего воображения. Словно одинокий, никем не замечаемый художник. Возможно, вдовец. Или холостяк. Который никогда не был женат.
Левин возился с новыми идеями. После того, как они с Томом сняли последний совместный фильм, он записал альбом. Первый за почти двадцать пять лет. Альбом этот вызвал неоднозначную реакцию. Один рецензент назвал его «нарочито усложненным». Левин воспринял это как великую похвалу. Про следующий альбом сказали: «На любителя». Хуже всего был отзыв, в котором говорилось: «Порой неприятно наблюдать, как мастер перебирает средства. Бывший композитор Тома Вашингтона ныне перерывает современную музыку в поисках гениальных трюфелей. Чего недостает сей блуждающей оде всем подряд, от Дзё Хисаиси до Филипа Гласса, так это направленности». Левин был в ярости, даже запустил чем-то в стену. Своим телефоном. Ему вспомнилось, как Лидия заново штукатурила дыру.
И все же диск продавался, хотя и без ажиотажа. Левин даже стал думать, что следующий альбом будет прорывом. Он начал жаждать другой разновидности признания; не просто признания заслуг, но реванша. Помышлял о вечере в Карнеги-холле. Мечтал о таком же подарке, как тот, что Говард Шор сделал Питеру Джексону, когда пригласил его в трилогию «Властелин колец». Желал доказать Тому, что тот поступил глупо, положив конец их партнерству. Левин знал, что мог бы участвовать в последнем фильме Тома. И справился бы лучше того подающего надежды юнца, нанятого Томом. Левин был готов к чему-то большому. Зачем тогда нужен переломный рубеж пятидесятилетия, если ты не готов к расцвету?
Именно в этот момент я наблюдаю, как творческая личность спотыкается, когда мечется между силой и подчинением. Вы поразитесь тому, как редко художники испытывают моменты истинного удовлетворения. Когда они поглощены своим ремеслом — цветом, движением или звуком, словами, глиной, картинами или танцем, когда они подчиняются искусству, именно тогда они постигают две вещи: пустоту, которая есть жизнь, и усилие, которое есть смерть. Великое и мелкое. Самые лучшие отражают это. Быть предвестниками истины — значит нести определенные издержки. Это нелегкая задача — уравновесить ощущение невостребованности с жаждой славы, бездну — с аплодисментами. Художники водят пальцами по ткани вечности.
11
Я очень долго находился рядом с художниками. Присутствовал на суде по делу об изнасиловании юной художницы Артемизии Джентилески. Был с нею, когда она вонзила живописный клинок в шею Олоферна. Стоял возле нее, когда она писала: «Я покажу вам, на что способна женщина. Вы найдете в душе женщины бесстрашие Цезаря». Только представьте, пятьсот лет назад!
Я два десятка лет наблюдал, как Доротея Тербуш отдавала всю жизнь детям, пока наконец после кончины своей злобной свекрови не вернулась к карьере портретистки, для которой была предназначена от рождения. Это я навещал в психиатрической больнице Камиллу Клодель, гениальные руки которой бездействовали. Я видел, как она медленно умирала на протяжении тридцати лет, но мне так и не удалось убедить ни ее любовника Родена, ни ее брата предоставить ей свободу или хотя бы глину. Я стоял рядом с Мерет Оппенгейм, когда она покрывала мехом ложку и чашку, а Макс Эрнст объявлял, что в свои двадцать три года эта девушка превзошла их всех — и Дюшана, и Бретона, и остальных сюрреалистов.
Я видел исключительно одаренных молодых женщин — двадцатилетних Софонисбу Ангиссолу и Катарину ван Хемессен, тринадцатилетнюю Клару Петерс. Все они родились до 1600 года. Поищите их картины, если не знаете. У каждой из них был отец, понимавший потенциал дочери и по достоинству ценивший ее талант. У каждой была мать, тоже талантливая, но посвятившая себя домашнему хозяйству, супружеству и воспитанию детей, как от нее и ожидалось. Но большинство женщин не имели ни поддержки, ни возможности приобрести краски, палитру, холст, чернила, уроки, бумагу, ни времени. Вот так и возник огромный дисбаланс.
Марина Абрамович всю жизнь училась отвергать ожидания. Сегодня тридцать первый день пути, озаглавленного ею «В присутствии художника». В первый же день у нее начались галлюцинации — иногда секундные, а иногда длившиеся больше часа. Со стороны кажется, будто подобное продолжительное сидение на месте не доставляет страданий, но поверьте мне, это не так. Прежде чем дело пойдет на лад, обязательно будет плохо: галлюцинации, боль. Таких условий тело не прощает. Оно не любит, когда его игнорируют. Рабочие системы противятся диктатуре. Эндокринная, нервная, кровеносная. Лимфатическая. Экзокринная. Пищеварительная. Мочевыделительная. Дыхательная. Мышечная. Мы видим неподвижную, пристально смотрящую, сосредоточенную Марину, а внутри нее начинается война. Все эти системы пытаются функционировать, пока художница остается без движения. А как же ее сознание? Что ж, при всей видимости покоя оно работает не менее интенсивно, чем остальное. Марина одновременно и наполнена, и пуста — тоже парадокс. Эта женщина, как и все прочие, купается в чувствах, мыслях, воспоминаниях и ощущениях, но одновременно с этим она смотрит в глаза и сердца незнакомых людей и находит умиротворение. Ее назначение — балансировать на грани безумия, преодолевая боль, обретать утешение распада.
12
В ресторане Джейн и Левин обсудили рустикальный декор, удачно подвернувшийся свободный столик, меню. На закуску оба заказали фуа-гра. За соседним столиком расположились двенадцать женщин, и постоянные взрывы хохота несколько мешали непринужденному общению.
— Что именно в творчестве Абрамович вас восхищает? — спросила Джейн.
— Не знаю, — ответил Левин. — Ее новизна до сих пор не померкла.
— Наверху, на ретроспективе, есть стол со всякой всячиной: розой, бутылкой оливкового масла, цепью, хлыстом, бутылкой вина, ножом, ножовкой. Пистолетом с одной пулей. Это с перформанса, который Абрамович устраивала еще в семидесятых. В Италии. Марина предложила зрителям делать с ней все, что они захотят, используя любые предметы на столе.
— И что было дальше?
— Ну, ее раздевали, резали, разрисовывали, писали на ее теле слова. Переносили, приковывали цепями к столу. Наконец кто-то зарядил пистолет пулей, приставил его к голове Марины и попытался заставить ее нажать на курок.
— А она что?
— Осталась совершенно безучастной. Она могла погибнуть. Некоторые зрители мешали другим причинять ей вред.
— Это ужасно.
— На фотографиях она плачет. Но Марина не сбежала. Она безучастно пребывала там целых шесть часов. Я не могу отделаться от мысли, что именно так она, должно быть, выжила в детстве.
— У нее было тяжелое детство?
— Во время Второй мировой ее мать и отец спасли друг другу жизнь. Казалось бы, после такого романтического начала все могло сложиться хорошо. Но нет. Родители ненавидели друг друга. Мать Марины управляла домом, как военным лагерем.
Ужин продолжался, разговор плескался на мелях истории, бултыхаясь в воспоминаниях, погружаясь